Статьи великопостного цикла 2017 г. — Мы оставлены Богом. Пять кинотеологий. — Во Христе прогорк мир. К генеалогии нигилизма и фундаментализма. — Лайфхак: что делать после конца света. Эсхатологические заметки. — Чего следует желать. Прикладная демонология. — Как христианство сделало женщину свободной. Набросок христианского феминизма. — Пасха Моисея и Пасха Христа. Богословие Революции.
В прошлый раз мы говорили о том, как христианство привело к нигилизму. Сегодня предлагаю обсудить, что будет дальше, к чему идет мир — иными словами, поговорить об эсхатологии. Вот блестящий текст Вальтера Беньямина, великого мыслителя (помимо прочего, вернувшего богословие в центр актуального философствования) — «Теолого-политический фрагмент», связывающий эсхатологию и нигилизм:
«Лишь сам мессия завершает всякую историческую событийность, в том смысле, что лишь он спасает, завершает, сотворяет ее отношение к мессианскому. Потому ничто историческое не может само по себе из себя относиться к мессианскому. Потому Царство Божие не есть конечная цель (Теlos) исторических сил (Dynаmis); его нельзя сделать целью. С исторической точки зрения оно не цель, а конец. […]
Порядок мирского должен выстроиться на идее счастья. […] Если одна стрела указывает на цель, в направлении которой действует сила мирского, другая же — в направлении мессианского усилия, то свободное человечество в поисках счастья, конечно же, устремляется прочь от этого мессианского направления, но подобно тому как сила на своем пути может поспособствовать силе, чей путь направлен в противоположную сторону, так и мирской порядок мирского — пришествию мессианского царства. Следовательно, хотя мирское — это не категория царства, но категория, причем одна из наиболее подходящих, незаметнейшего его приближения. Ибо в счастье все земное чает свою гибель, лишь в счастье предначертано ему эту гибель обрести. Хотя, конечно, непосредственное мессианское усилие сердца, отдельного внутреннего человека, ведет сквозь несчастье, сквозь страдание. Духовному restitutio in integrum [восстановление в прежних правах (лат.)], которое приводит к бессмертию, соответствует мирское, ведущее к вечной гибели, и ритм этого вечно преходящего, в своей тотальности преходящего, в своей пространственной, да и временной тотальности преходящего мирского, ритм мессианской природы — и есть счастье. Ибо мессианской может быть природа только в вечной своей и тотальной преходящести.
Стремиться к ней, даже на тех стадиях человека, которые суть природа, — есть задача мировой политики, метод которой должен зваться нигилизмом».
Нигилизм есть мировая политика, посредством придания всему преходящести приближающая мессианский момент; диалектику этого процесса образуют оппозиции «счастье — гибель»/«страдание — спасение», Цель/Конец. Мы закончили предыдущий текст радостью нигилизма — но какая же радость, если мы сами говорили о несчастье и тщете современности?
Антропологическая граница, фундаментальное расхождение между человеком и животным состоит в несводимом различии потребности и желания, тематизированном психоанализом (борьба принципа удовольствия с либидо у раннего Фрейда; борьба Эроса и Танатоса у позднего; различие удовольствия и наслаждения у Лакана). У животных есть только потребности, и они удовлетворяются или нет. У человека есть желание, и оно сущностно желает невозможного наслаждения. Желание само по себе принципиально неисполнимо. Наслаждение приносит неудовольствие, страдание — вспомним банальную тему «сладких мук любви», чтобы далеко не ходить. Теперь смотрите: во-первых, наслаждение, чаемое желанием, само по себе несет страдание, а во-вторых, если все потребности удовлетворены, то человек будет полностью счастлив или, напротив, полностью несчастлив?
ЦЕЛЬ И КОНЕЦ ИСТОРИИ
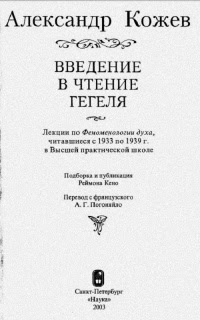
По Беньямину, историю образуют диалектика силы мирского, ведущая к счастью и гибели, и сила мессианского, ведущая к страданию и спасению. Другой великий мыслитель, Александр Кожев, классик темы Конца истории (оказавший влияние на всю современную мысль), в своем «Введении в чтение Гегеля» указывает, что историю образует диалектика
«удовлетворения Желания, каковое составляет последнюю цель и оправдание человеческого бытия».
Конец истории есть исполнение её Цели: постисторический человек человеком собственно уже не будет, он станет Животным. Более того, по Кожеву Конец уже наступил — в послевоенной Америке, и американцы, обладатели государства благоденствия и либеральной демократии, — постисторические Животные:
«Исчезновение Человека в конце Истории не будет космической катастрофой […]: Человек продолжает жить, но как животное. [Останется только то, что] делает Человека счастливым».
В «Примечании» ко второму изданию он, однако, добавляет примечательную оговорку:
«Если Человек снова становится животным, его искусства, любови, игры и прочее также должны снова стать чисто «естественными». В таком случае пришлось бы допустить, что после конца Истории люди строили бы здания и создавали произведения искусства точно так же, как птицы вьют гнезда, а пауки ткут паутину, они исполняли бы музыку по примеру лягушек и кузнечиков, играли бы, как играют щенки, и занимались любовью так, как это делают взрослые звери. Но вряд ли можно сказать, что все это «сделало бы Человека счастливым». Надо было бы сказать, что постисторические животные вида Homo sapiens (которые будут жить при изобилии и в полной безопасности) будут довольны».
Еще Кожев:
«Вся эволюция христианского Мира представляет собой не что иное, как движение к атеистическому осознанию сущностной конечности человеческого существования [ср. с беньяминовской диалектикой «гибели» / «преходящести» и «бессмертия» во «Фрагменте»]».
Кожев толкует Гегеля радикально-атеистически. Полное Удовлетворение — возможно и оно повязано с атеизмом и конечностью существования. Но не будем забывать, что Кожев — принципиально иронический мыслитель, как нас предупредил Деррида в «Призраках Маркса»:
«Надо учитывать некую причудливость Кожева — порою гениальную, за которой зачастую скрывается усмешка. […] Ирония некоторых провокационных высказываний [Кожева часто ускользает от читателя]».
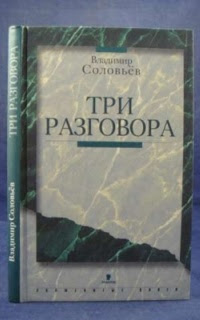
С чего начинал Кожев? С исследования эсхатологии Соловьева, в частности — «Повести об Антихристе», классического текста о Конце истории. Антихрист в «Повести», как вы помните, удовлетворяет все желания человечества, кроме нескольких упрямых христиан:
«Пocлe блaгoпoлyчнoгo peшeния пoлитичecкoгo и coциaльнoгo вoпpoca пoднялcя вoпpoc peлигиoзный. Eгo вoзбyдил caм импepaтop, и пpeждe вceгo пo oтнoшeнию к xpиcтиaнcтвy».
Все вопросы решены вполне благополучно, но все же христианское меньшинство не принимает Антихриста:
«Чтo eщe мoгy я cдeлaть для вac? Cтpaнныe люди! Чeгo вы oт мeня xoтитe? Я нe знaю».
Им нужен Христос, Он дороже благополучия:
«Гpяди, Гocпoди Ииcyce!».
А если Кожев, знаток Соловьева, при всем том, в «Введении» говорит, что Конец истории повязан с отказом от христианства, полным удовлетворением и превращением Человека в Зверя — не является ли эта концепция проявлением гениальной причудливости, провокации и иронии Кожева?

Современник Соловьева Достоевский в «Записках из подполья», первом психоаналитическом тексте — записки-то из бессознательного, и именно про то, как желание играет против потребностей, — Достоевский тоже описывает Конец истории как полное удовлетворение:
«Тогда-то, – это все вы говорите, – настанут новые экономические отношения, совсем уж готовые и тоже вычисленные с математическою точностью, так что в один миг исчезнут всевозможные вопросы, собственно потому, что на них получатся всевозможные ответы. Тогда выстроится хрустальный дворец. […] я, например, нисколько не удивлюсь, если вдруг ни с того ни с сего среди всеобщего будущего благоразумия возникнет какой-нибудь джентльмен с неблагородной или, лучше сказать, с ретроградной и насмешливою физиономией, упрет руки в боки и скажет нам всем: а что, господа, не столкнуть ли нам все это благоразумие с одного разу, ногой, прахом, единственно с тою целью, чтоб все эти логарифмы отправились к черту и чтоб нам опять по своей глупой воле пожить! […] Человек, всегда и везде, кто бы он ни был, любил действовать так, как хотел, а вовсе не так, как повелевали ему разум и выгода; хотеть же можно и против собственной выгоды [Желание против потребности!], а иногда и положительно должно (это уж моя идея). Свое собственное, вольное и свободное хотенье, свой собственный, хотя бы самый дикий каприз, своя фантазия, раздраженная иногда хоть бы даже до сумасшествия, – вот это-то все и есть та самая, пропущенная, самая выгодная выгода, которая ни под какую классификацию не подходит и от которой все системы и теории постоянно разлетаются к черту».
Идеальное будущее будет разрушено из-за каприза, т. е. именно потому, что человеческое желание, вопреки потребностям человеческой природы, хочет невозможного. В другом тексте Достоевского — «Поэме о Великом Инквизиторе» — находим те же мысли:
«[Великий Инквизитор] именно ставит в заслугу себе и своим, что наконец-то они побороли свободу и сделали так для того, чтобы сделать людей счастливыми. […] Зачем же ты [Христос] пришел нам мешать?»
Христос мешает осуществлению счастья людей. А счастье связано с ликвидацией свободы, «свободного хотения» из «Записок», т. е. с ликвидации желания, в его различии с потребностью (различии со «счастьем» по Беньямину, «выгодой и разумом» по Достоевскому; «благополучием» по Соловьеву, «удовлетворению» по Кожеву). Апостол Павел:
«Когда будут говорить: “мир и безопасность“, тогда внезапно постигнет их пагуба» (1 Фес 5:3)
Все наши тексты, как видите, свидетельствуют об одном:
1. История есть процесс, цель которого — удовлетворение потребностей, достижение счастья и благополучия, разрешение всех вопросов.
2. Достижение этой цели — это торжество Антихриста, упразднение свободы, превращение человека в Животное, гибель.
3. При достижении этой цели человек будет полностью счастлив как Животное, но вместе с тем — полностью несчастлив как существо, наделенное желанием невозможного.
4. Невозможное при достижении Цели истории завершит её: это явление Мессии, Славное пришествие Христа. Удовлетворение потребностей оголит во всей чистоте желание невозможного. Полнота реализованного из всего, что только возможно было реализовать, высветит ничто, отсутствие невозможного (каприз свободного хотения). А невозможное — это Бог, Грядущий Христос.
5. В силу того, что человек имеет не только потребности, но и желание, история есть не только движение — через счастье, но вопреки наслаждению — к Цели, но и — через страдание, но ради наслаждения — к мессианскому Концу. Цель истории — гибель Человека, её Конец — спасение Человека.
6. Цель и Конец истории взаимосвязаны, одно вызывает другое. Они образуют одно событие. Эсхатология и телеология — два движения, образующие историю.
СРЕДСТВА БЕЗ ЦЕЛЕЙ
Где цели — там, естественно, и средства. По Кожеву, вся мировая история с ее кровавыми ужасами несправедливостью оправдана своей Целью. Войны, геноциды и прочее — были нужны ради Цели. Слотердайк в «Критике цинического разума» прекрасно по этому поводу писал, что идеализм целей предполагает цинизм средств: «цель оправдывает средства».
Великий современный мыслитель Джорджо Агамбен, во многом продолжающий Беньямина и Кожева, по этому поводу писал в «Заметках о политике»:
«Целеполагание без средств (добро или красота как цели сами по себе) на деле также отчуждают, как опосредование, обретающее смысл только во взаимосвязи с какой-либо целью. То, к чему стремиться политический опыт, — это не более высокая цель, а […] бытие-в-средстве как ни к чему несводимое состояние человечества».
Агамбеновская утопия средств-без-целей: средства, о
Но вспомним ницшеанское определение нигилизма:
«Что означает нигилизм? — То, что высшие ценности теряют свою ценность. Нет цели. Нет ответа на вопрос «зачем?»
И беньяминовское:
«Потому Царство Божие не есть конечная цель (Теlos) исторических сил (Dynаmis); его нельзя сделать целью. С исторической точки зрения оно не цель, а конец. […] Мессианской может быть природа только в вечной своей и тотальной преходящести.
Стремиться к ней, даже на тех стадиях человека, которые суть природа, — есть задача мировой политики, метод которой должен зваться нигилизмом».
Помните, мы определяли нигилизм как плод христианства, как радость и освобождение? Нигилизм — это победившая бесцельность, осознание иллюзорности целей. Жертв более не приносят, или точнее — нет жертвоприношений богам — ибо нет богов, нет целей, нет идеалов, есть только лишь жертвы преступлений.
Подлинно революционной политикой будет освобождение средств от целей — бытие средств без всяких целей. Эту утопию Агамбен иллюстрирует спасенным миром и спасенными телами блаженных — после Страшного Суда. После конца истории мир и человек, его тело, сохранятся, но не будут иметь никаких целей; тело, сохраняя пищеварительные и половые органы, не будет, однако, ни есть, ни размножаться, они «просто будут» — в вечном блаженстве без каких-либо целей: великая праздность вечной Субботы.
Как будут жить эти воскрешенные тела в блаженной вечности, и есть ли этому какие-то соответствия, предвосхищения в нашем мире? Конечно — это совершенно нецелевое использование тела в танце и любви. Процитируем Агамбена «Тело славы»:
«Использовать тело и применять его в качестве орудия для выполнения какой-либо задачи на самом деле — не одно и то же. Но речь вовсе не идёт о простом, пресловутом отсутствии задачи, с которым часто путают этику и красоту. Суть скорее в том, чтобы прекратить действие, направленное на выполнение определённой задачи, дав ему новое предназначение, не упраздняющее прежнее, а утверждающееся в нём и демонстрирующее его. […] это делает танцор, ломая и нарушая экономику движений тела, чтобы затем восстановить их в исходном и вместе с тем преображённом виде в своей хореографии. Нагое, обыденное человеческое тело вовсе не переносится здесь в некую высшую и облагороженную реальность: скорее оно, точно освободившись от чар, которые отделяли его от самого себя, впервые достигает собственной истинности. Стало быть, рот становится по-настоящему ртом, когда готовится к поцелую, самые интимные и личные части превращаются в объекты совместного использования и удовольствия, а повседневные движения преобразуются в загадочное послание, скрытый смысл которого расшифровывает для окружающих танцор. Ведь если в качестве органа выступает способность, то его назначение — не частное и не личное, а исключительно совместное. […] Тело славы — вовсе не какое-то другое, более подвижное и красивое, более светлое и духовное тело: это то же самое тело в движении, в котором бездействие развеивает чары и раскрывает его для нового совместного использования».
Кожев в уже упоминавшемся «Примечании» к своему «Введению» говорит — полностью переворачивая свою мысль — нечто похожее, перепрыгивая с момента Антихриста в момент Христа, из адской вечности в райскую:
«Невозможно «окончательное уничтожение собственно Человека», пока будут существовать животные вида Homo sapiens, могущие служить «естественным» субстратом тому, что есть собственно человеческого в людях. Но, как я уже говорил выше в Примечании, «животное, которое живет в согласии с Природой, или наличным-Бытием», это живое существо, в котором нет ничего человеческого. Чтобы остаться человеком, Человек должен быть «Субъектом,
противопоставленным Объекту», даже при том, что уже нет «отрицающего данности Действования, или Ошибки». Что означает, что, говоря отныне вполне адекватно обо всем, что ему дано, постисторический Человек должен по-прежнему отделять «формы» от их «содержания», но уже не затем, чтобы действием трансформировать это последнее, но с тем, чтобы противопоставить себя самого в качестве чистой «формы» себе самому и остальным, взятым в качестве каких угодно «содержаний».
Кожевское противопоставление «чистой формы» каким угодно «содержаниям» при отсутствии «действования» — это ведь то же самое, что агамбеновские средства-без-цели и Вечная Суббота.
МЕССИАНСКАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Никакие цели не оправдывают жертв — вот банальная формула нигилизма с его морализмом, который так бесил Ницще, мечтавшего о «новых ценностях», а значит, конечно, и о новых жертвах. Но как же уже убитые жертвы? Как же справедливость? Или «справедливость» — такая же «цель», требующая кровавых жертв? Обратимся еще раз к Беньямину, на этот раз к эссе «О понятии истории»:
«Между нашим поколением и поколениями прошлого существует тайный уговор. Значит, нашего появления на земле ожидали. Значит нам, так же как и всякому предшествующему роду, сообщена слабая мессианская сила, на которую притязает прошлое. Просто так от этого притязания не отмахнуться. […] лишь достигшее избавления человечество получает прошлое в свое полное распоряжение. Это означает: лишь для спасенного человечества прошлое становится цитируемым, вызываемым в каждом из его моментов. Каждое из его пережитых мгновений становится citation a l’ordre du jour [«упоминанием в повестке дня» (фр.) ], а день-то этот — день Страшного суда. […] Исторический материалист подходит к историческому предмету исключительно там, где он предстает ему как монада. В этой структуре он узнает знак мессианского застывания [вспомним кожевскую остановку Дейстования и агамбеновскую Субботу; здесь видна почему заповедь о Субботе входи в Декалог: заповедь мессианском ожидании, о том, как это ожидание управляет временем, о мессианской праздности] хода событий, иначе говоря: революционного шанса в борьбе за угнетенное прошлое. Он ухватывается за него, чтобы вырвать определенную эпоху из гомогенного движения истории».
Цель истории пожирает содержание истории ради себя. Цель воздвигнута на горе трупов миллионов «средств». Мессианский конец истории спасает её всю, всех угнетенных, всех жертв. Достижение Цели истории сплошь несправедливо. Её Конец несет справедливость. Мертвые воскреснут.

И, наконец, мы подошли к лучшей из известных мне книг об эсхатологии — и к последней, что я буду здесь использовать — к «Призракам Маркса» Жака Деррида. Призраки? Деррида пишет о «spectres» (фр.), т. е. вообще о «духах», и его книгу смело можно считать пространным комментарием к словам Павла о «даре различения духов» — именно таким различением и тем, как его проводить, занимается Деррида, уделяя, кстати, довольно много внимания теме дара.
Дело не только в прошлых поколениях, но и в будущих, и в справедливости к ним обоим, но понимаемой не как месть и не как право:
«Причина, по которой я собираюсь столь долго говорить о призраках, о наследовании и о поколениях, о поколениях призраков, т. е. о неких других, которые не присутствуют и не живут в настоящем — ни перед нами, ни внутри нас, ни вне нас, называется справедливость. Та справедливость, что пребывает там, где её ещё нет, там, где её пока ещё нет, и которая там, где её уже нет, там, где мы понимаем, что она более не присутствует; это та справедливость, что никогда, так же, как и закон, не может быть сведена к праву».
«Та справедливость, что пребывает там, где её ещё нет, там, где её пока ещё нет, и которая там, где её уже нет» — но ведь это Имя Бога, открытое Моисею: אהיה אשר אהיה (эхье ашер эхье) , где соединено прошедшее, настоящее и будущее время глагола хайя («быть»).
Греческий перевод как вы помните: εγω ειμι ο ων (Я есмь Сущий) — бытие в настоящем времени, где Бог представлен как тотальное здесь-и-сейчас присутствие: греческая, т. е. языческая метафизика. Еврейское Имя — т. е. библейское, по-настоящему христианское — предполагает намного более сложное отношения Бога и бытия-времени: Его связь и с прошлым, и с будущим, а вместе с тем Его неподконтрольность времени. Бог не дан, Он всегда больше: Он невозможен. Он есть не как сущее, не-есть — это, естественно, все классические темы апофатики. В этом не-переводе с еврейского на греческий завязан узел из Бога-времени-бытия-
Итак, мессианской силой обладает не только прошлое, («уже нет»), но и будущее («ещё нет»). Кроме живого присутствия «есть» мертвые и «есть» нерожденные, есть эффекты прошлого и будущего в настоящем. Эти эффекты следует ввести в логику, превосходящую логику простого живого присутствия:
«Представление затеяно ради конца истории: мизансцена конца. Назовем это призракологикой. Эта логика призрачности может быть не только более мощной и всеохватной, нежели любая онтология или мысль о бытии […]. Призракологика может включать в себя даже эсхатологию и телеологию, которые окажутся ее частными случаями или подразделами».

Итак, наши эсхатология и телеология включены в превосходящую их призракологику (различение духов) из-за сложности понятия бытия-времени. Каково это понятие и как оно связано с темой справедливости?
ОНТОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗЛИЧИЕ
Деррида, конечно, идет за Хайдеггером, в частности за его утверждением онтологического различия и критикой метафизики. Хайдегггер различал бытие и сущее: «есть» звезда и «есть» камень, они сущие, но есть еще само «есть» — бытие само по себе. К слову, как показал Ватиммо, Хайдеггер сформулировал эти свои главные идеи при анализе Посланий апостола Павла, а именно его эсхатологии.
Если мыслить метафизически, то есть то, что есть, момент идет за моментом по причинно-следственной цепочке. В метафизике все объяснимо, предсказуемо, принципиально познаваемо. По такой же логике строиться и концепт справедливости: вот хороший поступок как причина своего следствия — награды, вот плохой — следствием которого будет наказание. Физическая каузальность зеркалится моральной: причина-вина. Все ясно. Предел такой логики — кармические религии. Часто такую картину называют здравым смыслом. Бог здесь — Сущий, Основание и Принцип миропорядка. Такого Бога Библия называет Князем мира сего; вообще главная религиозная интрига — кому мы поклоняемся, Богу или Сатане. В этой картине история имеет телеологическое завершение. В этой картине желанию невозможного нет места: есть только «естественные потребости» и «естественное удовлетворение», все же остальное — детские мечты, если не вредные иллюзии, если не больные фантазмы.

Но если есть не только налично-сущее, а есть и бытие, от него отличное, которое в сущем сбылось, а могло сбыться и по другому, и может сбыться еще как-то в будущем, если возможно новое — то картина меняется: есть, значит, не только налично-сущее, но еще, так сказать, бытие-в-кредит. Надо бы, конечно, написать историю капитала как богословской метафоры, здесь просто дадим перечнем: таланты и заимодавцы, все экономические метафоры Евангелия; Тертуллиан, сравнивающий Лица Троицы, обладающие общей усией, с акционерами, обладающие общим капиталом; спор Канта и Гегеля о ста талерах относительно онтологического доказательства; Маркс спустя много веков, переворачивающий тертуллианову метафору, иллюстрируя свой анализ капитала Троицей. Агамбен в статье «Если государство рассекает твое тело» пишет:
«Давид Флюссер, великий ученый-религиовед (существует дисциплина и с таким странным названием!), как раз исследовал слово pistis, греческий термин, который Иисус и апостолы использовали в значении «веры». Однажды он случайно оказался на одной площади в Афинах и, подняв в определенный момент глаза, увидел перед собой надпись большими буквами: «Trapeza tes pisteos». Потрясенный совпадением, он осмотрелся лучше и через пару секунд понял, что находится просто-напросто перед банком: trapeza tes pisteos означает по-гречески «Кредитный банк». Так вот каков был смысл слова pistis, прояснением которого он занимался несколько месяцев! Pistis, «вера» — это просто кредит Бога, которым мы пользуемся и которым Божье слово пользуется у нас, с того момента, как мы уверовали. Посему Павел может сказать в знаменитом определении, что «вера есть осуществление ожидаемого» — то, что дает реальность еще не существующему, но чему мы верим, чему доверяем, когда ставим на карту наше собственное доверие и наше слово».
Итак, если мы учитываем онтологическое различие, то мы понимаем что возможно все, что будет нечто новое. В метафизике — знают, в эсхатологии — верят. Чему учит история, при учете онтологического различия? Ничему, кроме одного: возможно всё. Известно только одно: будущее будет и оно будет другое. Если существовали древние греки, самураи, рыцари, войны, революции, СССР и все остальное, такое невероятно разное, то уверенное метафизическое знание ничего не стоит — например, высокомерное «это невозможно» очередных экспертов о какой-нибудь утопии. Возможно все, а значит — побеждает не знание, а вера: у вас есть наличные — это прекрасно, но мой кредит будет побольше. В силу того, что будущее будет, наши утопии возможны, а ваше уверенное знание как раз таки рано или поздно перестанет быть актуальным.
В метафизике человек — это вот такое определенное сущее, существующее по таким-то и таким-то законам. В эсхатологии человек — свободен и непредсказуем. Здесь — Бог не Основание миропорядка, а Эхье ашер эхье, не Сущий, а Тот, Кто будет, там где будет. Бог, грядущий разрушить мир сей, а не оновывающий его. И справедливость здесь другая.

Первую картину мира определяет право, вторую — справедливость, которая выше права, мессианская справедливость. Здесь возможно прощение. Если человек не больше налично-сущего, то простить его нельзя — он вот такой и он не измениться: связка причина — вина даст свое следствие — наказание, и бессмысленно предполагать иное; карма, закон. Но если есть бытие и возможно изменение, то грешнику можно предоставить кредит — простить. Можно верить — верить в него вопреки знанию. Если все ограничено наличным — то измениться нельзя («я такой, ничего не поделаешь; такой характер»), покаяние невозможно. Но если есть бытие оно может сбыться и по-другому, и тогда возможно покаяние. Прошлое, сбывшееся, то, что мы знаем и что якобы определяет нас, правит нами… но нет — «есть»/будет будущее, несбывшееся, то, что мы не знаем, а значит — мы свободны.
«Простить — значит ничего не понять», как писал Степун, или, как писал Бадью: «Действительно любить — это плохо понимать».
Мы любим в человеке не его знаемые свойства, а что-то помимо них, что-то за ними — его самого (любим «агальму» по Лакану). Поэтому вопреки его свойствам — мы можем в него верить, несмотря на его поступки — простить, несмотря на очевидность — надеяться. Различие между бытием и сущим, обеспечивающее возможность другого, нового, — это то же самое, что различие между природой и личностью, сформулированное впервые в христианской догматике; то же самое, что различие потребности и желания, природной и гномической воль по Максиму Исповеднику.
Противоборствуют знание и любовь, закон и свобода. Когда свободен — не знаешь что делать (еще раз — это нигилизм; это тяжкая свобода: «хочу инструкций!»). Закон приказывает, это отношения власти. Власть предполагает знание и закон, любовь — свободу и незнание, то есть веру (соловьевский Антихрист «не знает», что нужно «странным людям»;«дикий каприз» Достоевского не укладывается «ни под какую классификацию»; по Кожеву завершение истории сопряжено с Абсолютным Знанием). Здесь «психология» и этика срастаются с онтологией: если будущее будет, будет неизвестное, будет новое; его знать нельзя. Деррида пишет:
«Сила воздействия, присущая демократическому обещанию, равно как и обещанию коммунистическому, будет всегда связана с этим абсолютно неопределенным мессианским упованием, которое они непременно несут в себе, неопределенным в самой своей сути, с этим эсхатологическим отношением к наступлению некоего события и некоей уникальности — инаковости, которую невозможно предвосхитить. Ожидание без горизонта ожидания, ожидание того, чего мы еще или уже не ожидаем, безграничное гостеприимство, «добро пожаловать», заранее обращенное к прибывающему, появление которого для нас абсолютно непредсказуемо, от которого не требуется ничего взамен, которому не нужно вести себя согласно правилам принимающей стороны (семьи, государства, нации, территории, почвы или крови, языка, культуры вообще, даже самого человечества); справедливая открытость, отказывающаяся от всякого права на собственность, от всякого права вообще; мессианская открытость тому, что грядет, т. е. событию, какого мы не можем ожидать как таковое, […] Однако подобное безграничное гостеприимство является условием события, а значит, и истории […], оно и есть само невозможное».
В силу того, что бытие отличается от налично-сущего, и это различие суть различие субъекта и его природы, то возможны такие феномены как вера, надежда, мечта, фантазия. Я могу воображать то, чего нет, надеяться, верить, мечтать о другом. Если сущее закономерно идет от момента к моменту — нового не будет. Но если есть бесконечное бытие, могущее бесконечно по-новому раскрываться, то и человек — не просто животное, с «понятной» неизменяемой природой, а субъект, открытый к бесконечному и новому, а значит, поставленный в наличные условия — вопреки им — он может представить, вообразить что-то другое: верить, мечтать; он может меняться и сам менять сущее. И эта возможность субъекта — двигатель истории, личной и мировой. Иначе — мы животные, а историй у нас нет, есть только процессы физические, биологические и социологические, идущие по своим скучным законам.

Если в метафизике смысл истории — это некий закон, то в эсхатологии смысл ее будет скорее литературным. В эсхатологии история — это нарратив, рассказываемая история: приключения материи и энергии, видов живых существ, людей. Поэтому Библия — собрание рассказов, а не кодекс законов; но я думаю, что возможно построить и космологию по литературным принципам — все будет пониматься как ансамбль без-законных уникальных событий, только лишь в «обобщении», «в массе» принимающих форму законообразности.
Смысл истории не предопределен, он будет выявлен в ее финале. Скажем, я совершил мерзость, а значит — я мерзавец, таково мое свойство. Но если я покаялся и получил прощение — мне в силу бесконечности и непредсказуемости бытия выдали кредит веры-надежды-любви — и я поменяюсь. История, взятая в целом, будет рассказывать не о моей мерзости, а о моем спасении (напомню Беньямина: «лишь для спасенного человечества прошлое становится цитируемым»). Иисуса распяли, Он проиграл. Но Он воскрес, и его поражение теперь вписано в конечное торжество. Его раны — свидетельство уже не поражения, а победы. Иов страдает, и не знает почему; друзья ему объясняют, что вот такое у тебя прошлое было, поэтому и такое настоящее. Но Иов не принимает этих объяснений, он не знает, почему страдает — и Бог оказывается на его стороне. Знание, в итоге всегда оказывающееся ложным, — против необъяснимости жизни и возможности всегда нового. Бог возвращает потерянное Иову вдвое.
Так и Страшный суд подведет итог всем историям и истории в целом — и все жертвы истории станут ее героями. Прошлое прошло, его нельзя изменить, но можно переинтерпретировать, и нынешняя моя неудача может стать моментом истории моей конечной удачи, нынешняя грусть может углубить мою будущую радость. Оставление грехов означает, что можно оставить грехи в прошлом, а не считать, что они предопределяют мое будущее. Покаяние, по Лествичнику, — дочь надежды, надежды избавиться от грехов, надежды на спасение и радость. Когда я умру, состав моей жизни будет собран в целом (Логос и значит — собирание): пять-шесть точек радости свяжут жизненный поток и дадут историю спасения, или пять-шесть точек неоставленных грехов сделают мою историю бездарной и бессмысленной, и с ней ничего не останется делать, кроме как сжечь.
Поток фактов сам по себе бессмыслен, смысл приходит Извне. Всякое искусство несет райский или эсхатологический опыт, ибо всякая история — даже самая «чернушная», самая трагичная, или, что особо иронично, даже абсурдистская, желающая высветить абсурд жизни, — собирает (пришествие Логоса!), осмысляет факты в целое — в силу самой своей структуры: зачин — кульминация — финал, рамка, начало — конец. Пришествие Мессии дарит истории финал, тем самым переосмысляя ее, даруя ей Себя — Смысл, Логос.
Ионеско где-то писал: «Мир нельзя переделать, но можно пересоздать».
Прошлое прошло — не переделать. Но будет будущее — пересоздание, причем каждую секунду возможное. Еще раз Беньямин «О понятии истории»:
«Историзм удовлетворяется тем, что устанавливает каузальную связь между различными моментами истории [историзм — то, что мы здесь, вслед Хайдеггеру, называли метафизикой]. […] Как известно, иудеям было запрещено испытывать будущее [ведь оно непредсказуемо; предсказывать — магам ли, экспертам ли — можно если есть некий закон истории, но его нет, есть только свобода, обеспеченная бытием, в его отличии от сущего — будущим как новым]. Зато Тора и Молитвенник наставляли их в воспоминании. Благодаря этому для них было расколдовано будущее, под чары которого попадают те, кто прибегает к помощи прорицателей. Однако поэтому будущее не было для иудеев гомогенным и пустым временем. Потому что в нем каждая секунда была маленькой калиткой, в которую мог войти Мессия [пересоздание мира; каждая секунда — новая, несет мессианское обещание]».

Мир себе не тождественен, не сводим к наличности — всегда есть какой то избыток, кредит. Время — это не закономерное шествие от момента к моменту (как и наша биография — не закономерная цепочка происшествий, а собрание событий и поступков), а непрестанный приход новизны. Деррида пишет:
«Превосходя право, тем более — правовое сознание, тем более мораль, тем более — морализм, не предполагает ли справедливость, как отношение к другому, наоборот, некоего нередуцируемого избытка разлаженности или анахронии […] в самом времени; разлада, который всегда грозит превратиться в зло, экспроприацию и несправедливость (adikia),
которые нельзя предугадать — но можно лишь воздать по справедливости или ответить справедливостью другому как другому?»
Из-за анахронии самого времени (избытка бытия, онтологического различия) возможно как и зло (заметьте, что в метафизике нет зла как такового — раз все объяснимо, то и оправдано, о чем мы уже как-то писали), так и добро, справедливость превыше права — легче назвать её просто любовью. В силу временения времени, того факта, что бытие продолжает сбываться, мессианизм уже всегда вписан в саму структуру бытия-времени.
Итак, в силу онтологической разницы метафизика — ложь, а значит, ложь и ее частный случай — телеология. Значит, верна эсхатология — мы верим в пришествие Мессии.
Подведем итоги. Телеологическое завершение истории, метафизика, карма, каузальность, знание, забвение бытия и упразднение человеческое свободы, Бог как Основание сущего — это один ряд. Мы сказали, что все это ложь и связали ее с Антихристом: история якобы закономерна. Кто навязывает этот закон, кто хочет властвовать нами? Мироправители тьмы века сего, князь мира сего. Мессианское обещание состоит в том, что мы будем освобождены, а мироправители будут свергнуты, «Бог-Основание» будет разоблачен как Сатана, победит бытие, прощение, свобода, вера, надежда и любовь. Победит Невозможное.
РЕАЛИЗОВАННАЯ ЭСХАТОЛОГИЯ
Но постойте, разве Мессия уже не пришел и не спас мир? Конец света-то уже произошел две тысячи лет назад! Так значит все то, что мы говорили, уже произошло? «Уже да еще нет» по известной формуле.
Христианская эсхатология парадоксальна. Мессия уже пришел и спас мир, Царство уже победило. Но история еще идет. И наше время («современность») парадоксально, оно растянуто между Первым и Вторым Пришествиями Христа. Агамбен «Церковь и время»:
«Время Мессии» обозначает не хронологическую длительность, но качественную трансформацию переживаемого времени. Нечто, подобное опозданию хронологическому, как, к примеру, когда говорится, что «поезд опаздывает», в этом времени совершенно немыслимо. О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братия, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью, — пишет Павел к Фессалоникийцам (1 Фес 5, 1–2). «Придет», по-гречески erchetai, в тексте оригинала употребляется в настоящем времени, подобно тому, как в Евангелии Мессия называется «грядущим» (ho erchomenos), то есть Тем, Кто никогда не перестает приходить. […]
Мессианское — не конец времени, но соотношение каждого мгновения, каждого времени (kairos) с концом времени и с вечностью. Так, внимание Павла обращено не на последний день, мгновение, в которое время заканчивается, но на время, которое сжимается и начинает заканчиваться, на временной интервал, остающийся между временем и его концом».
Мессианское время — настоящее время. Дело не в фантастическом исчислении «сколько осталось до Конца» — неважно, один день или миллион лет. Важно, что уже сейчас — время Конца; важно не количество времени, а его качество. Мы уже внутри «мгновения» Пришествия, Царство уже здесь. В богословии это называют «реализованной эсхатологией» — Конец уже наступил, мы живем в Конце — в Тупике, если не верим в Христа, но способны видеть влияние христианства на историю. Не «тот свет», не загробная жизнь, а наступающий сейчас будущий век должен интересовать христиан. Как же жить в осуществленной эсхатологии?

Царство подобно закваске или горчичному зерну — оно восходит в истории, одновременно с ним восходит Царство Зверя. «Мир сей» имеет себе синонимом «век сей» и второй термин намного лучше, ибо мир сам по себе — благой, ибо создан благим Творцом, но в веке сем — искажен. Мир будет спасен в будущем веке. «Чаю жизни будущего века и воскресения мертвых»: финал история — не только Новое творение, но и спасение всех прошлых времен. Наше время — противоборство двух Царств, совмещение, наслоение века сего и будущего века. Мыслить по-христиански, по-библейски — значит мыслить исторически, анализировать современность. Современность — это одновременно и путь к Антихристу и путь ко Христу. И поэтому ее можно с одинаковой верностью и критиковать и восхвалять. В мировой истории рассказываются две — переплетенных меж собой до неотличимости — истории, одна лживая — антихристова (Сатана — «клеветник») и истинная — Христова (Параклет — «Утешитель»). Приведем пару примеров этой так сказать эсхатологической суперпозиции (синхронии двух взаимоисключающих событий, совмещения двух несовместимых состояний).
Христианство, ликвидировав идентичности, проблематизировало само понятие человеческого. Раньше было понятно — человеческим достоинством наделяли по особым законам, через определенные социальные или религиозные институты, например в инициации, или политически — например, афинский гражданин — человек, а раб или чужестранец — нет. Христианство убило все это, объявив что все люди — люди, т. е. сделав де-факто ставку на биологический вид — человеком является тот, кто принадлежит к виду Homo sapiens. Все равны. Никого нельзя убить. Все наделены одинаковым правами. Прекрасно? В высшей степени, но одновременно с этим — человечеству угрожают неслыханные опасности биополитики. Кожев пишет про Животное, Агамбен — про восславленные тела — это не философская заумь, это актуальная политика. Если не главными, то самыми обсуждаемыми вопросами современной политики являются как раз вопросы биополитические: эвтаназия и аборты (больного и эмбрион убивают «не убивая»), ЛГБТ*-проблематика (политика вторгается в постель, постель — в политику), иммигранты (ибо, не будучи гражданами, они есть только «голая жизнь» — их правовой статус проблематичен); медицина и демография (современный врач обладает неслыханной властью; государство решает что есть, пить, курить и как размножаться его гражданам — в союзе с медициной, конечно, — и тем самым медицина становится политическим институтом), безопасность (ради борьбы с терроризмом, и просто ради «жизни» граждан — государство лишает гражданских прав этих самых граждан: то есть превращает«политическое животное» в «голую жизнь»). А что настанет с входом биотехнологий в жизнь, никто не знает.
Другой пример. Мы говорили о том, что христианство в нигилизме одарило нас знанием бесцельности всего на свете. Властители ставят какие-то цели всегда с тем, чтобы кого-то убить. В бесцельности же просто будем жить, просто любить. Это так, но одновременно с этим человек не выносит подаренной свободы. Если смыслы не даны «сверху», их следует изобрести, сотворить в радостной работе любви. Этого почти никто не может, и человечество накрывает чувство отчаяния и безысходности, о чем бесчисленное количество раз свидетельствует современная культура. Человек оказывается без места в мире — в утопии. И это наш последний пример.

Человек, будучи существом в котором осуществляется сбывание бытия, желающий невозможного — словом, богоподобный — не имеет своего места в мире, он существо принципиально утопическое. Все наши так называемые законы — лишь узаконения, будь они законами — их нельзя было бы нарушать, но нарушаем мы их на кажлом шагу. Есть только один закон для человека — свобода, вот от нее отказаться действительно нельзя. Христианство открыло это. Приходит Царство, и наше участие в нем, наше его со-созидание зависит от деятельной любви (вспомним притчу о Страшном суде). И вот мы строим утопии. Можно прощать и каяться, можно изменяться и изменять: история наша и мировая в наших руках. Прогресса мы добились необыкновенного. Рабство отменено, женщины освобождены, больные — излечимы, заключенных не наказывают, а реабилитируют… Царство — да — входит в мир несомненно. Это прекрасно, это удивительно, но одновременно — каких же ужасов мы понаделали, строя свои утопии. СССР был в высшей степени впечатляющей попыткой построить Царство, и чем-то в высшей степени похожим на наступление ада. И вот поэтому лучшая книга о эсхатологии — «Призраки Маркса» — посвящена коммунистическому обещанию, грядущей демократии, Новому Интернационалу — посвящена марксизму, его страшной неудаче, но и верности его духу.
Итак, Христова и Антихристова истории синхронизированы. Этому само собой учила еще притча о пшенице и плевелах: вплоть до Конца они будут расти вместе. Возвращаясь к нашей эсхатологической суперпозиции: коллапс вектора состояния (определение на адское и райское, овец и козлищ) состоится только в Решающем Замере Экспериментатора, а до него каждый из нас и история в целом одновременно и живы и мертвы, как кот Шредингера. Нас предупреждали: Антихрист и Христос синхронизированы, одновременны. Пророк Осия говорил:
«Буду нападать на них, как лишенная детей медведица, и раздирать вместилище сердца их, и поедать их там, как львица; полевые звери будут терзать их» (13:8) — с одной стороны, а с другой, одновременно: «От власти ада Я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?» (13:14).
Вопрос в нашей ориентации — в какой истории мы участвуем? Кого ждем? На что работаем? Боимся Конца или ждем его с нетерпением?
«Молимся мы, да приидет Господь и да разрушит мир», – Ориген. [in Jesu Nazar homel, 6, 4]. «Все воздыхание наше – о кончине века сего», — Тертуллиан [Tertull., Apolog, 39] — вот молитвы ранних христиан.
Те, кто жаждет вечного блаженства, влечется желанием невозможного наслаждения — жаждет наступления будущего века. Смена эсхатологической радости, которая была основным настронием первых христиан, на эсхатологический испуг — это смена ожидания Христа на ожидание Антихриста. Но с какого перепугу христианам ждать Антихриста?
Кто боится Конца — раб века сего, понимает он это или нет. Кто боится падения Берлина и Нюрнбергского суда? — Нацисты. А кто этого жаждет? — Красная армия. На какой мы стороне? На стороне нового творения или на стороне ветхого?
Так что же делать после Конца света? — Радоваться.
Ей, гряди, Господи Иисусе!
Жак Деррида
Вальтер Беньямин
Джорджо Агамбен
Александр Кожев
Федор Достоевский
Владимир Соловьев
*«Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ.




