Продолжаем серию публикаций, посвященных 100-летию Русской Революции. Сегодня — компиляция из разных текстов философа Василия Розанова, главным образом — из его текстов 1917-18 гг., то есть синхронных революционным событиям: почти «репортаж с места событий». Выделим две особенности нижеприведенных заметок. Первая — крайняя противоречивость отношения Розанова к Революции: от апологии до проклятия. Большие надежды и огромные разочарования. И это большая ценность розановских заметок: так отражается противоречивость самой Революции и противоречивое к ней отношение России столетней давности. Мы можем увидеть путаницу, которая царила тогда в головах и царит в наших головах до сих пор. Вторая особенность: христианская, богословская составляющая, попытка увязать христианство и Революцию. Россия — христианская страна: как её «христианскость» связана с её Революцией? Здесь мысли Розанова чрезвычайно интересны, парадоксальны, местами «кощунственны». Не надо с ними «соглашаться». Но мы надеемся, что эти мысли Розанова помогут нам задуматься, начать задавать правильные вопросы.
Отчего «левые» побеждают «центр» и «правых»? То есть не побеждают, но так явно идут к победе?
Что есть у левых? Ну, ум еще есть: но больше – решительно ничего. Сума за плечами или вроде этого – вот средства завоевания, инструмент побед.
Ничего нет… и они побеждают, как побеждали первые христиане древний мир, этот мир Горация и Пантеона, куртизанок и блеска, гражданского права и сложной цивилизации.
Только теперь, как это ни грустно сказать, в положении отступающего и побеждаемого – именно этот христианский мир, родившийся в катакомбах и затем родивший из себя громадную неизмеримую цивилизацию, около которой “апокалиптические царства” Кира, Навуходоносора и Нерона суть то же, что старые красивые и слабые фрегаты около стального броненосца. Пали, по Апокалипсису, те древние царства: но вот, по какому-то новому Апокалипсису, явно крушится и сам победитель, о котором в пророческой книге предречено, что он будет “царствовать вечно”, что в нем “правда и закон”, и вообще, что это “последнее”, после чего ничего не нужно и ничего “не будет”.
“Левые” суть начинатели какого-то нового мира. Об этом кажется даже поется в их аляповатых, грубоватых песенках, – грош ценою в смысле поэзии. И весь вопрос и заключается собственно в том: каким образом мог зародиться какой бы то ни было “новый мир” среди того “апокалиптического окончательного” мира, который именуется “христианством”? Как ему нашлось место? Где оно нашлось? В этом весь вопрос и пожалуй вся метафизика левого положения вещей.
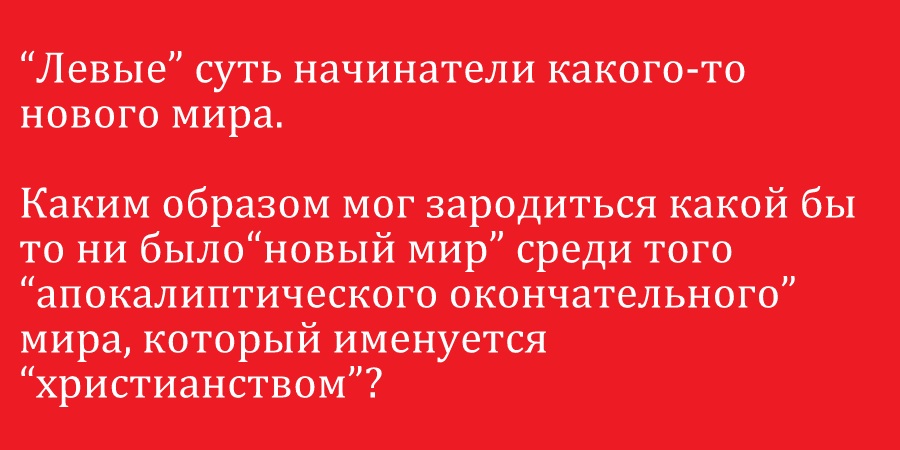
Здесь мы должны будем произнести несколько еще более грустных слов, чем ранее. “Место” нашлось для “нового мира”: ибо ничего из вековечных жажд и ожиданий и нужд человечества не было утишено “благою вестью”, вынесенной из катакомб.
Умираем – так же!
Болеем – так же!
Нефриты, раки, чахотка – все те же!
Тюрьмы – такие же! Нет, еще страшнее: разве древний мир изобретал что-нибудь [подобное] “одиночной камере” на 20 лет, этой холодной параллели огненного “ауто-да-фе” средних веков.
Тоска, голод, самоубийство, мор детей, унижение женщин, звание “проститутки” и желтый билет – что изменилось после Рождества Христова сравнительно с тем, что было до Рождества Христова?
Да, забыл… появились утешения!
Появилось успокоение!
Явился новый, неслыханный, небесный глагол: “претерпите”!
– “Блаженны нищие”…
– “Блаженны гонимые”…
“Блаженным” осталось только улыбаться на утешение… в каменных тюрьмах, в больницах для сифилитичных и видя, как дитя задыхается в скарлатине и нет рубля, чтобы позвать доктора.
“Блаженные” ежились, корчились, делали улыбку, глотая слезы… и не выдержали.
– Позвольте: отец христианского мира, папа Бонифаций VIII, получив пощечину от римского патриция Колонна, вошедшего во дворец его с победителями французами, – умер от обиды и бессильного негодования. Отчего же он не “претерпел по образцу Голгофского Страдальца”, как указывает нам, людям, толпе, мученикам рода человеческого?
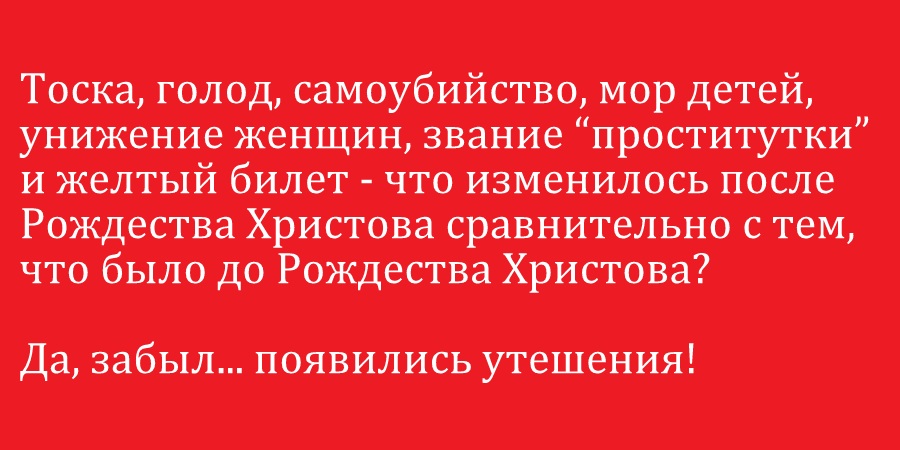
Мы за тумаком даже не гонимся: такая малость! У нас дети умирают в скарлатине – это больше! Почему же мы, слабые, маленькие, обязаны “терпеть по примеру Голгофского Страдальца”, когда сильные учителя наши, древние и новые, не могут и никогда не могли вынести даже простой обиды и неповиновения, умирая от первой, а на вторые отвечая тюрьмой и огнем? И, наконец, Сам Голгофский Страдалец правда умер безгрешный: но ведь смертью Он победил мир, купил его, завоевал его. “Царство Христово”, “христианский мир”… мы-то, с чахоткой, раком, нефритами, какое “царство” основываем и “что” побеждаем? Цену видим она безмерна. Награды никакой. Да вот разве что батюшки “с нами”, “за нас”, “благословляют нас на страдание” и обещают за него “награду на том свете”. Но они не “на том свете”, а на этом ходят в золотых ризах, облекаются, как иконы, имеют честь, славу и поклонение, просят жалования: отчего мы и для нас отложено все до “того света”? За требу мы платим “на сем свете”. Нельзя сказать попу: уплачу, батюшка, за крестины на том свете – теперь не при деньгах. Отчего все получают “на сем свете” и Сам Христос получил царство, вот этот “христианский мир”, тоже на сем свете – в виде католической Франции, православной России, протестантской Германии: только одни мы, страдальцы, работники, больные, зараженные, голодные, “будем получать там”… “За расчетом приходите позднее”… Странно: при таком расчете работники ропщут на дворе фабрики. Так то – фабрика, явная ложь и притеснение. Но ведь это – церковь, религия, ведь мы у учителей такого учения руки целуем, под благословение к ним подходим, шагу в жизни не делаем без их благословения и нам это запрещено: как же тут-то “расчет позднее”, когда все решительно и они сами требуют расчета здесь, требуют его честью, славой, поклонением и наконец просто деньгами.
– Да и что нового в слове: “потерпите”? Не то же ли говорит доктор у постели больного, когда не может помочь? Так это “не может помочь” не удивительно у доктора, земного человека, обыкновенного смертного: а ведь “потерпите” нам будто бы принесен бессмертный глагол, небесное слово. Да и доктор, “наш брат”, скажет это неутешительное “потерпите” после громадных усилий, какие он сделает у постели больного: тогда как у “не нашего брата” не видно и самых этих усилий. Просто – мы “брошенная вещь”, которая должна претерпеть в состоянии этой “брошенности” и даже, как кажется, от самой этой “брошенности”.
– Наконец, что необыкновенного в этом “претерпите”. Эту философию изобрел и язычник Диоген. На вековечные задачи человечества о “приобретении” приобретении богатства, чести, власти, положения и проч., – он указал человечеству боковую дверь: вот эту свою бочку, в которую залезши и греясь на солнышке, кстати, очень хорошо греющем в Элладе, – можно не завидовать ни царям, ни завоевателям. “Приобрести все” можно “покоривши все”; но можно этой же цели достигнуть и “дав задний ход”: отказавшись от всего.
Сирийские монахи и анахореты Индии только повторили эту философию раннего эллинского анархиста, точнее – шли по пути, параллельному с его бочкой.
Христианство не принесло на землю никаких существенностей. “Существенно” человеку не сидеть в тюрьме, а не то, чтобы слышать разные утешения, сидя в тюрьме; быть не голодным, а не то, чтобы читать о “бедном Лазаре” в утешение всем голодающим. Суть в том, чтобы не хворать: но никакой “сути” нет в том, как покойному расчешут волосы, оденут и “охорошат” его. Христианство все “охорашивало”. Не целя ран, оно к ним привязало прекрасные слова, возвышенные поучения, поэтические сравнения. Только.
И ко всему этому стал человек равнодушен.
И стал он оглядываться: кто же, что же принесет ему “существенность”?
И стал он искать, говоря теперешним демократическим языком, “своих средствий” в поборонии “существенностей”, “существенных” ран мира, не залеченных христианством, а только напудренных им.
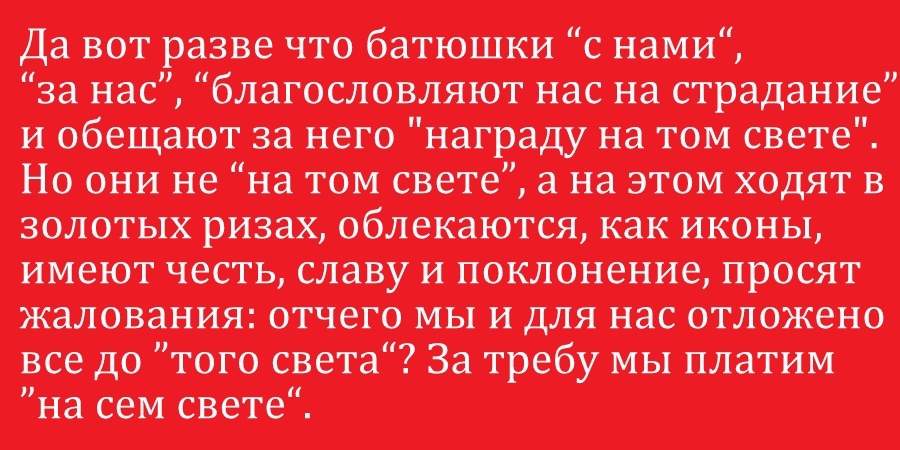
– Не стоните.
– Не плачьте.
– Не скрежещите зубами.
– И вам всем будет казаться, что вы не болеете… Слишком легко лечение… Появилась наука: по-видимому холодная, абстрактная, бездушная в первых шагах своих, в начальных азах своих; но по мере того, как эти “азы” начали сливаться в осмысленную речь, – из нее повеяло добротой, великодушием, заботою. Статистика – да, это голые цифры, счет фактов; политическая экономия – свод законов, подмеченных наблюдателями хозяйственной жизни. Но и политическая экономия, и статистика – в руках “доброго человека”, этого страдальца, который решил прибегнуть к “своим средствиям”. Страдалец направил свою науку на свои раны; это уже естественно. Вместо утешения через рассказ о том, что когда-то пять тысяч человек были напитаны пятью хлебами, явилась земная агрономия, которая из куска земли [, – который] не может пропитать и пяти человек, научила собирать хлеба столько, сколько нужно десяти тысячам человек.
Осушила болота; выучила травосеянию; придумала плуг; научила системам земледелия: в общем итоге дала столько, сколько не дано было хлеба во всех чудодейственных рассказах всех религий.
Как медики вылечили столько болезней, сколько не произвели исцелений чудотворцы тоже во всех религиях.
И так все просто! “Свои люди”, – не ломаются, не требуют, чтобы у них “целовали руку” за исцеление: а просто берут три рубля, детишкам с женою на обед, труд за труд и облегчение за облегчение. “Взаимное облегчение” – вот что такое деньги и плата. Совсем не “грешная вещь”, а почти что святая. Да и такие добрые: конечно – берут, когда дают или удобно взять; но во множестве случаев, вот от “убогих-то Лазарей”, не только что ничего не берут, но еще кладут под подушку больному рубль на лекарство. И лекарство помогает, и дети благодарят за больную мать, – а доктор машет рукой, крича: “некогда! иду к другому – еще тяжелее болен”!
И ни малейшей тенденции одеться, “как икона”, – чтобы вот эти “ризы”, и дым фимиама, и поклонения, и лобзания рук… Ибо ведь не малейшей нет возможности отвергнуть, что за свои “прекрасные слова” духовенство всех стран потребовало себе поклонения; поклонения и даже коленопреклонения… Этого отвергнуть невозможно, это очевидно: и суть всех служб церковных конечно не в том, что мы молимся Богу, что можно хорошо делать и дома, а вот что – среди фимиамов и зажженных свеч движется фигура священника “в ризе”, которая золотистым или серебристым видом своим так сливается, подобится “ризам” на иконах: на которых, впрочем, изображены старцы же, иереи, архиереи веков минувших и стран дальних, “наши предшественники”…
Род и поколения духовного родства, духовной преемственности, духовных предков.
Как в языческом мире поклонялись “предкам” физическим, физиологическим.
Но суть поклонения – одна.
“Левое” направление цивилизации, которое имеет в политике только более осязательное выражение, а у нас в России получило теперь наиболее сильный толчок – есть более всего перемена методов суждения и методов действия: на место прежних религиозных становятся научные, на место “полученных с неба” становятся “свои”…
Вот и только!
Но как необъятен этот переворот: он гораздо больше, чем когда “религия сменяла религию”, напр. “язычество” сменялось “христианством”.

Поэтому на этом перевороте сходятся евреи и русские, он ласкает и манит татарина; он – всемирен, как всемирна наука, наукообразность, “самонадеянность” в страданиях исстрадавшегося человечества, которая составляет душу всего.
И идут сюда латыш, грузин, поляк – подавая руку, все спрашивая: “где земский врач: у меня захворал ребенок”.
И идет земский врач, может быть жид, говоря: “мне не надо, латыш он или русский: у него колики в животе; пусть пьет ромашку, в нее капля опиума, а на живот согревающий компресс. За это мне дайте рубль, – я на него куплю книгу, где еще больше прочитаю о болезнях”.
Удобно!
Просто!
Не “божественно”: но как добро, необходимо, целительно. Это “существенности”: нельзя оспорить, что новые методы суждения и новые методы действия принесли на землю уже “существенности”, тогда как прежде все были хотя и божественные, но однако “слова”…
* * *
Как не целовать руку у Церкви, если она и безграмотному дала способ молитвы: зажгла лампадку старуха темная, старая и сказала: «Господи помилуй» (слыхала в церкви, да и «сама собой» скажет) — и положила поклон в землю.
И «помолилась» и утешилась. Легче стало на душе у одинокой, старой.
Кто это придумает? Пифагор не «откроет», Ньютон не «вычислит».
Церковь сделала. Поняла. Сумела.
Церковь научила этому всех. Осанна Церкви, — осанна как Христу — “благословенна Грядущая во имя Господне”.
* * *
Философы, да и то не все, говорили о Боге. О бессмертии души учил Платон. Еще некоторые. Церковь не “учила”, не “говорила”, а повелевала верить в Бога и питаться от бессмертия души… Она несла это Имя, эту Веру, это Знамя без колебания со времен древних и донесла до наших времен. О сомневающемся она говорила: “Ты — не мой”. Нельзя представить себе простого дьячка, который сказал бы: “Может быть, бессмертия души и нет”… Сумма учений Церкви неизмерима сравнительно с платоновой системой. И так все хлебно, так все просто. Она подойдет к роженице. Она подходит ко гробу. Это нужно. Вот нужного-то и не сумел добавить к своим идеям Платон.
* * *
Заботится ли солнце о земле?
Не из чего не видно: оно ее “притягивает прямо пропорционально массе и обратно пропорционально квадратам расстояний”.
Таким образом, 1-й ответ о солнце и о земле Коперника был глуп.
Просто — глуп.
Он «сосчитал». Но «счет» в применении к нравственному явлению я нахожу просто глупым.
Он просто ответил глупо, негодно.
С этого глупого ответа Коперника на нравственный вопрос о планете и солнце началась пошлость планеты и опустошение Небес.
“Конечно, — земля не имеет об себе заботы солнца, а только притягивается по кубам расстояний”.
Тьфу.
* * *
Крайний спиритуализм в понимании христианства, поглощение в Христе «человека» «Божеством» – от которого предостерегали нас вселенские соборы – отразились полной материализацией христианства, ежесекундных и повсеместных всплесков христианского моря. Отсюда текут его антиномии; «антиномиями» Кант назвал коренные и идущие от самого начала противоречия нашего разума, и есть такие же «nротиворечия» в нашей цивилизации.
Остановимся на некоторых. Евангелие есть книга бесплотных отношений — целомудрия, возведенного к абсолюту; и между тем цивилизация, казалось бы, на нем основанная, есть первая в истории, где проституция регистрируется, регламентируется и имеет свое законодательство, как есть законодательство фабричное. «Истинно говорю вам- верблюду легче войти в игольные уши, чем богатому в царство небесное»,- и вот мы видим, что именно «стяжелюбивый юноша» есть господствующий в нашей жизни тип. «Богатый и Лазарь»- какая вековечная притча; но где еще была более роскошная, более блистательная, «блистающая в одеждах» и всяческой «неге» цивилизация, как наша?
Поразительно, что всё течет обратно: не то чтобы по разным путям расходится – «слово» правее и «дело» немножечко влево; нет – они диаметрально кидаются навстречу друг другу.
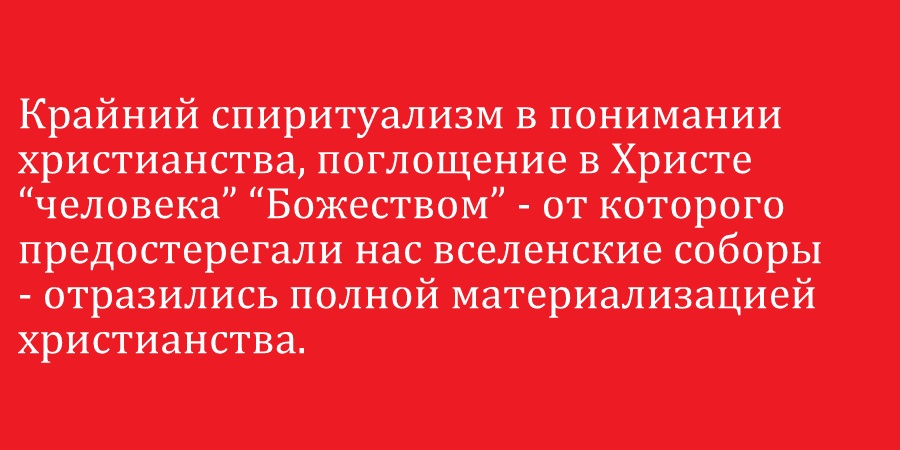
«Царство не от мира сего» … но было ли «царство» когда-нибудь более от «сего мира», столь поразительно светское, щеголеватое, до последних своих недр суетное и объективное, без всякой в себе тайны, без трогательности и нежного? «Не пецитеся на утро, утренний бо собою печется» – и нет, не было еще мира, который тревогу свою простирал бы так далеко, как наш: мы боимся и кометы, которая как бы не разбила землю, и пересыхания вод на нашем шаре, и исчезновения на нем воздуха, и охлаждения солнца, и падения земли на солнце – космического «пожара». Трусость и «попечение», которые решительно не имеют себе примеров в истории.
«Взгляните на лилии полевые: и Соломон в красоте одежд не был украшен лучше их»; «птицы не сеют, не жнути Отец Небесный питает их»,- это вы слышите в утешение, когда в величайшей нужде, в безысходном горе, полный растерянности обращаете речь к «брату»; и как часто – о, почти всегда! – этот словесный «хлеб» есть единственный, который вы получаете в напитание.
Погибнуть на площади, т. е. перед людными домами, замерзнуть на улице, быть растленной ради рубля, который даст ужин,- о, ведь это наша история, это хроника наших газет, отдел «мелких» и самых любопытных в них «известий». «Мелких известий» – как характерно это название! жизнь человека для нас «мелка», она nривычно мелка, она «мелка» для всех, и газеты только выражают мнение всех, последуют суждению всех, когда набирают эти известия мельчайшим шрифтом, nозади телеграмм о том, что корабль, везущий Фора, уже доехал до Антверпена. Филантропия подбирает замерзающих и растлеваемых: да, это характерно – выделился общественный институт, почти государственное министерство, чтобы исполнить то, чего около себя, вокруг себя никто исполнить не хочет. Зажегся очаг милосердия, как в морозы зажигаются костры на улицах … ну, да потому и зажегся, что атмосфера пронизана холодом, и, в сущности, каждый порознь есть полузамерзающий.
Вот эти «антиномии».
* * *
Последние годы, размышляя об устройстве и судьбах церкви, я иногда прикидывал в уме своем, чем или кем, собственно, Иисус Христос представляется нашему духовенству? Т. е. представляется согласно мероприятиям этого духовенства и его вечной проповеди. И вот со скорбью и мефистофелевски я думал, что Христос представляется нашему духовенству дюжим мужиком, который на всех накидывается за то, что мало его почитают, что недодают ему денег в мошну, и мало его украшают золотом и всяким снадобьем. Что не звонят о нем в колокола и мало о нем говорят, да не пускают его на председательские места. Как, спросит читатель, где же вы это видели, чтобы духовенство так проповедывало? Ведь оно проповедует кроткого и прощающего Христа! Но я отвечу на это, что, конечно, проповедуя христианство, духовенство полагает себя самого на месте Христа, учителем благим, – а паству или прихожан оно воображает мысленно на месте язычников, выслушивающих проповедь и учение Христа: и вот этим язычникам-мирянам духовенство точно внушает быть кроткими, послушными и нести как можно больше денег и чести себе; но самого-то себя, т. е. того, кто стоит на месте Христове, оно не представляет никак иначе, чем со властью, деньгами и почетом; мужиком толстым и разукрашенным. И вот когда в недавнем совершившемся перевороте посыпались звезды с неба, – и само небо свилось, будто свиток ветхой хартии, – все точь-в-точь как по Апокалипсису, то я невольно подумал, что одною из подспудных причин и переворота было это преображение духовенством Христа из тонкого в толстого и из неимущего в богатого и везде председательствующего. Люди не захотели молиться председателю, и пошло все далее, как пошло.
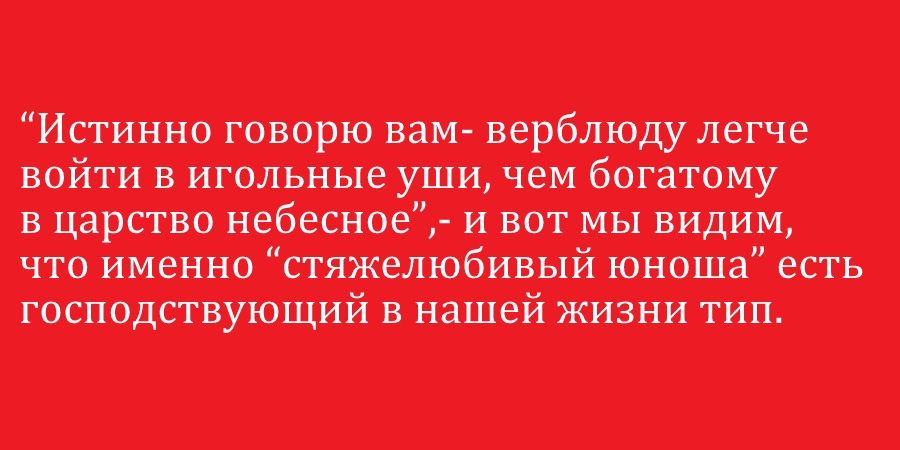
* * *
Вся Россия встречает Святую Пасху 1917 г. в каких-то совершенно новых озарениях, о которых ни один человек еще не помышлял в последние дни минувшего 1916 г. Все – новое. И самая душа – она новая, и наполняет фибры тела совершенно новою кровью. Пульс жизни бьется страшно быстро. Прошли минуты самых страшных замираний сердца, самых опасных тревог, самых мучительных колебаний. Перед нацией пустое, очищенное поле, по которому ей предстоит только шагать вперед и вперед. И все почти дело заключается в том, чтобы сама она, не пошатываясь, шла именно вперед, не оглядываясь назад, но и не допуская скачков со стороны, не перепрыгивая “через время”, а делая правильный ход в море, хотя еще и очень бурном, но уже не смертельно опасном.
Самое невероятное время пережито нашим поколением – эпоха двух страшных войн и двух таких внутренних потрясений, которых не запомнит наша история, а что касается до последней войны, то не запомнит подобной и история всего человечества. Религиозные люди имеют все причины вспомнить об Апокалипсисе: потому что события вполне апокалиптические, будем ли мы думать о войне, обратимся ли мыслью к нашему внутреннему потрясению и перевороту.
Но в противоположность потокам крови, которыми заливаются края нашего отечества во внешней войне и заливаются границы всех наций, пришедших в небывалое от начала мира столкновение, – внутреннее наше потрясение, на месяц почти заставившее забыть и самую войну своим неизмеримым смыслом и содержательностью, это потрясение произошло почти бескровно. И в самом же начале, в самые первые дни его, была дана благородная клятва в бескровии. Между тем, именно подобные перевороты как-то не щадили крови, почти “не считались с кровью”, хотя она и была своя собственная, народная кровь. В этом отношении замечается особливая черта, делающая русскую революцию непохожею на все остальные революции, и ее нужно беречь, как зеницу ока. Нам уже пришлось видеть столько угнетения и притеснения в прошлом, что душа наша не переносит самой мысли о нем, самого звука, напоминающего лязг оружия, меча или топора. И душа вся полна одного вопля: “не надо этого!” И вот этот вопль отвращения и дал нам бескровное отхождение от него в сторону.
“Было” и “нет его”. Так будущий Апокалипсис нашей истории расскажет о происшедших событиях нашего времени, о царстве “бывшем” и “не ставшем” в один месяц. “Дивились народы совершившемуся”, – как не повторить этих слов Апокалипсиса о перевороте. Мы сами “дивились”, в то же время совершая его. “Дивились великим удивлением”. “И свилось небо, как свиток, и попадали звезды”, – всё это слова Апокалипсиса! Всё – до чего применимо к нашим дням.
Воскресли “без кровавой жертвы”! Как и Христос был уже последнею кровавою жертвою и запретил навсегда таковые жертвоприношения на земле. В этом отношении не будет преувеличением сказать, что единственная “христианская революция” совершилась народом, который его вещим пророком был назван “богоносцем”. Этот ужас перед кровью и кровавостью был высказан, как мы заметили и как всем известно, в первые же дни, как только поднялся “занавес над революцией”, ее справедливым министром юстиции, и вместе народным другом и предводителем народных масс. Здесь он сказал историческое слово русского народа, и слово это запомнится летописцам. И хотя оно вырвалось из его личной души, но оно вместе было и народное, которое вместе с тем объясняет, почему именно его народ угадал себе в вожди.
Революция наша только тогда глубоко отделится от прошлого, – от всего того, что видели глаза и наши, и особенно наших предков, если хорошо выдержит и проведет разницу между христианскою “бескровною жертвою” и языческими “кровавыми жертвоприношениями”. Это лозунг, это завет. Да он кажется и крепок.
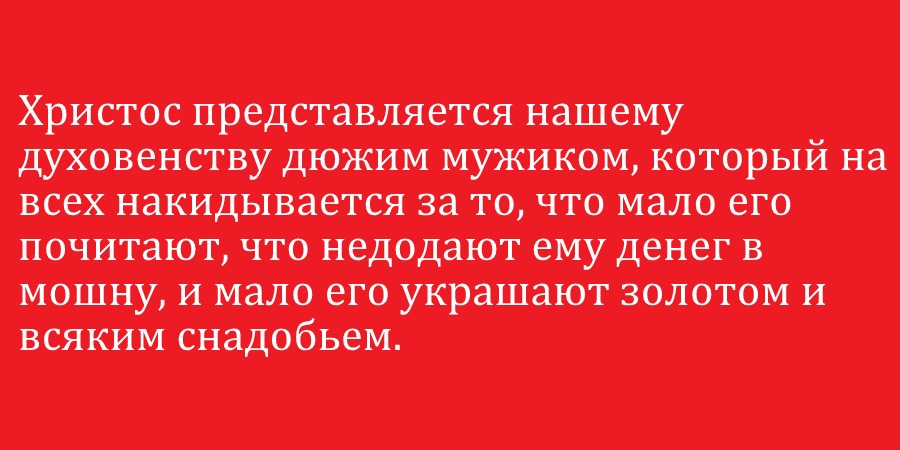
Обратимся к “вину новому”, которое принес Христос. И вот ныне мы обильно видим, как оно вливается во все фибры нашего организма. “Радость свобод всем заключенным…” В самые же первые не дни, а минуты мы видели разрушение узилищ, тюрем, этих ужасных каменных мешков, где томились души заключенных старым судом. И опять же быстро после этого последовало или начало следовать освобождение и целых народов, освобождение чужих вер, – которые томились в других и еще более страшных “узилищах” по приговорам своей печальной истории. И это также глубоко народно. Русский народ никого не теснит. Он ни у кого не отнимает веру его предков. Русский народ совершенно терпим и этнографически, и религиозно. Нужно было совершиться какому-то безумию историческому, – нужно было, чтобы правители его пошли “совершенно против народного духа”, чтобы были у нас и притеснения поляков, и притеснения евреев. Это возвращение чужим народностям своего дыхания есть вторая прекрасно-христианская черта совершившегося переворота… Собственно, он весь поднят был против бесчеловечности в государственности, против того, чтобы земля наша уподобилась тому мифическому Левиафану, с которым сравнивал всякое государство английский философ XVII в. Гоббс, – и полагал при этом, что государство и не может быть ничем иным, что такова его лютая природа в самой себе и вообще извечна. Наша же русская мысль и смысл “бескровной Пасхи”, ныне пережитой, заключается в обратном движении: “если государство имеет право вообще существовать, то только тогда, если оно никого не ест, а всем дает пищу”. Это есть нравственное оправдание государства, – и мы стоим перед задачею такого оправдания. Это есть величайшая проблема всемирной истории: не устанем же доказывать ее еще и еще.
Государству нашему, освобождавшему из-под восточных деспотий (Турции и Персии) маленькие народности Кавказа и Туркестана, – как легко было это сделать!! Оно не сделало. И вот “жезл правления” был у него отнят и передан другому. В права и пределы монархии вступила русская великая община, вступило народовольчество и народовластие. Понятно, какие обязательства перед народами и перед самой собой она приняла. О них мы должны думать денно и нощно.
Было трогательно наблюдать последние дни марта месяца, как народные волны опять тою же массою, как всегда это время, вошли под тихие своды наших церквей… Опять слушали в Великий Четверг, на стоянии, слова трогательной молитвы о “благоразумном разбойнике”, противополагаемом злому разбойнику. Один отрекся от Христа, другой сказал Ему, страдая в муках на кресте: “Господи, помяни меня, егда приидеши во Царствии Твоем”. Какие слова! И Христос утешил измученного страдальца: “Днесь будеши со мною в раю”. Какая мистерия жизни и воскресения.
Все будет хорошо, если мы сами будем хороши; все хорошо кончится, если мы сами не начнем худого. Не покинем же этого политического и нравственного “благоразумия”. Со старым и вместе с новым Светлым Христовым Воскресением, добрые читатели!
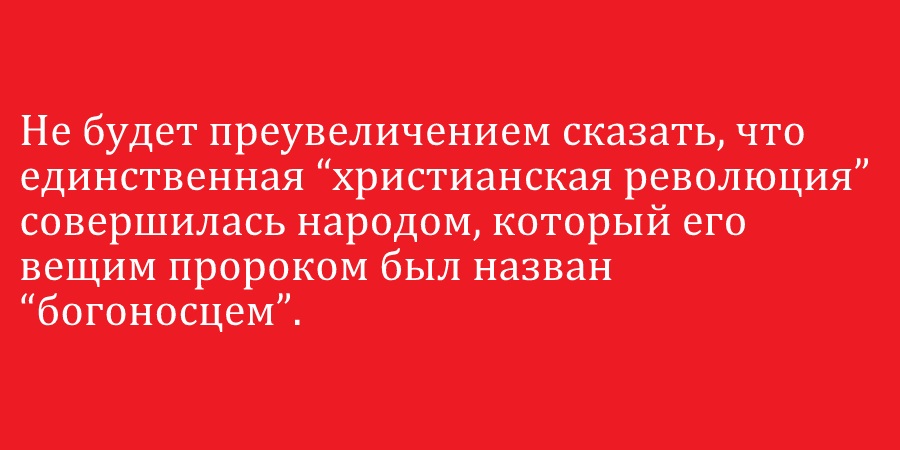
* * *
Вся история русская пронеслась перед моим воображением… И Ключевский, и С. М. Соловьев, и И. А. Попов: все, кого я слушал в Москве. И я всем им сказал реплику консерватора:
– Господа, господа… О, отечество, отечество: что же ты дало вот такому рабочему? Какое тупое лицо, какое безнадежное лицо. Но оно-то и говорит ярче всяких громов: вот он с ружьишком. Кто знает, может, поэт. Тупое внешнее выражение лица еще ничего не значит. Я сам непрерывно имею “тупое выражение лица”, а люблю пофантазировать. Он прямо (этот рабочий) идет в атаку “сбросить ненавистное правительство”. Да и прав. О, до чего прав. Ведь их миллионы, таких же, и все тупых и безнадежных; какую же им радость просвещающую дали в сердце? А радость – всегда просвещает. Один труд, одна злоба, один станок окаянный. Как он держится за ружье теперь: первая “собственная дорогая вещь”, попавшая ему в руки, не спорю – может быть украденная. У вас – броненосцы. Флот. Силы. А если силы – то и слава. Что же из этой славы и величия отечества вы дали ему? Сами вы генералы, а его превратили в воришку. Но живет во всякой душе сознание достоинства своего, и в том-то и боль, что вы не только сделали “сего Степана” отброшенным, ненужным себе, ненужным ни Ключевскому, ни Соловьеву, которые занимаются “величествами историческими”, а сделали наконец воришкой, совсем заплеванным, и о котором “сам Бог забыл”. Но это вам кажется, что Бог забыл, потому что собственно забыли вы сами, господа историки, а Бог-то не может ни единого человека забыть, и вот воззвал этого Степана и дал ему слово Иова и ружье… Забыт, забыт и забыт. О, как это страшно: “забытый человек”. Позвольте: об Иове хоть “Книга Бытия” говорит, какими громами, – и имя его не забудется вовек. Он прославлен, и славою пущею всяких царств. Но сколько же Степанов, сколько русских Степанов забыто русскими историками и русскою историею, всею русскою историею, – окончательно, в полной запеханности, в окаянном молчании. И по погребам, по винным лавкам, по хлевам они дохли, как крысы, “с одной обязанностью дворника выбросить их поутру к чорту”.
И сам церковник негодовал на церковь:
– Ну, а ваши песнопеньица? Такие золотистые? С кружевцом? С повышением ноты и с понижением ноты? Сам люблю, окаянный эстет: но ведь нигде же, нигде этот Степка опять не вспомнен, не назван, не обласкан, не унежен? Весь в лютом холоде, тысячу лет в холоде, да не в северном, а в этом окаянном холоде человеческого забвения и человеческой безвнимательности.
Буря.
Уж это в душе.
“И вспомнил Бог своего Иова”… “Русского Иова-Степана”. “И вот полетело все к чорту”.
“Иди, иди, Степан. Твое ружье, хоть ворованное. Иди и разрушай. Иди и стреляй”.
Буря. Натиск (сам поэт). Пришел домой. Снял сапоги и надел опять туфли.
Но, я думаю, в моем соображении есть кое-что истинное. Всякая революция есть до некоторой степени час мести. В первом азарте – она есть просто месть. И только потом начинает “строить”. Поэтому именно первые ее часы особенно страшны. И тут много “разбитого стекла”. Но вот – месть прошла, прошел ее роковой, черный и неодолимый час. “Вопрос в том, как же строить”. Это неизмеримо с часом разрушения, и тут все “в горку”, “ноженьки устают”, под ногами и песок, и галька, местами – тяжелая глина.
И вот, странная мысль у меня скользит. Собственно, за ХIХ век, со времен декабристов, Россия была вся революционна, литература была только революционна. Русские были самые чистые социалисты-энтузиасты. И конечно “падала монархия” весь этот век, и только в феврале “это кончилось”.
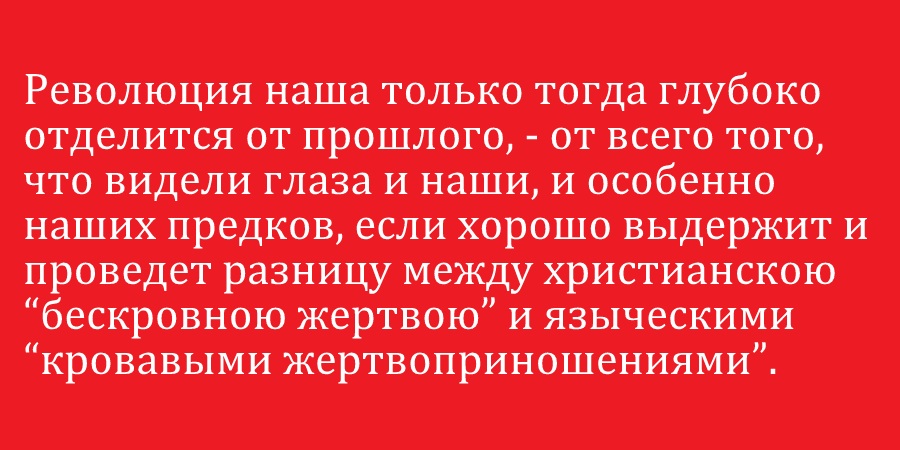
* * *
Вспоминаю канон республики – воистину, мой первый и вечнозданный канон Розанова:
Республика есть вечна пока невинна.
– Ну, так что же, господа, так просто.
– Не будем лгать. Не будем воровать. Не будем убивать. Там скучное Моисееве Десятословие. Исполним. Так немного. Десять строк.
Керенский рванулся и сказал первое святое слово, – о, до чего невинное, о, до чего неопытное:
– Не будем убивать (“отмена смертной казни в Москве”, в 1-й день республики).
О, как это было необыкновенно, странно, как было по-республикански, и уж не по-французски-республикански, а по-русски-республикански. Прямо – громовое слово русской республики, я думаю – даже единственное и последнее. Это было совершенно ново и единственно, потому что все республики и все революции залиты кровью, и для нашей также точно ожидался этот “канон”. И вдруг он первый сказал совершенно новое слово в строе вообще республиканского типа истории, вообще революционного типа. Вы знаете ли, что значит новое слово в истории? Нет, вы его не знаете, мои может быть совершенно обыкновенные читатели. А когда вы его не знаете, когда вы не произносили никаких вообще новых слов, вы не осмелитесь отвергнуть и того, если я назову* [* А я, по впечатлениям прежней деятельности Керенского, есть скорее его недруг, чем друг.] за него Керенского святым человеком. Потому-то сказать в специфически кровяном процессе, деле, и т. д., бескровное слово, канон бескровного делания, – это какое-то чудо и это совершенно бесспорно святое совершение. И он сказал просто, едва ли зная или едва ли глубоко думая, что делать, хотя странным образом вдруг все это услышали, отметили и запомнили, восприняли и сказали в сердце какое-то всероссийское: “Да. Аминь”.
Все знали: “Не убий”.
Но все знали также: в войне, в борьбе, в защите, в республике, в революции:
УБИЙ
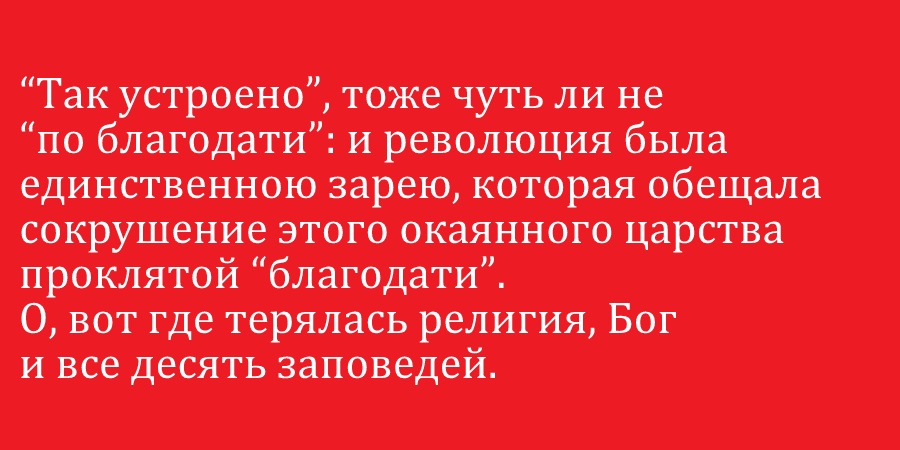
Вот и поклонимся ему, нашему чистому (забыл имя и отчество), сказавшему, даже для Моисея сказавшему новую одиннадцатую заповедь, – ибо и Моисей “в борьбе” пролил немало крови, даже пролил очень много крови:
а по-русски: не убий
никогда
И ведь именно он пролил-то слово “Святой республики”, детской, наивной и чистой, каковое слово я здесь развиваю как ее общий и настоящий, вечный канон. “Когда же дети убивают?” “Юное вообще не убийственно. Это – старость, это монархия”. Ну ее… к чорту.
Вот где расходится монархия и республика. Старость вообще “наказующа”, отцы и матери, отцовский и материнский принцип – вообще “наказующий”. Я понимаю душу Керенского, что он вообще бы не наказывал никогда и ни за что, и это опять его республиканский (чудный) дух, что он растворил бы и темницы, даже растворил бы, если б невозможно было. Помните и смотрите на Керенского (ибо он недолго проживет) – это проходит Жанна д’Арк в нашей революции, невинная и может быть не очень умная (этого и не надо), но святая. Этого-то одного собственно и надо бы для республики. Ума и “опыта” ей совершенно не надо.
Но Чичиков?
– Я могу и “не убить” и “не украсть”. Но вот чего я совершенно не могу: не обмануть.
– Для того рожден.
– Этим существую.
– Если мне “не обмануть”, то мне нельзя вообще “быть”. А Русь без Чичикова и не Русь. Вот он, сказал Гоголь: а он начертал вечные типы Руси, вечные стихии Руси, вечные схемы Руси. Как же вы республику-то завели? Ведь она чистота. Это сказал тоже другой зародитель… чего-то иного на Руси.
Поразительно, что мы в самом так сказать зачатии республики не забыли обмана, лукавства. А он пришел. От него республика и болит. Теперь она вся больна… И выздоровеет ли? Теперь все в отчаянии кричат, что не выздоровеет.
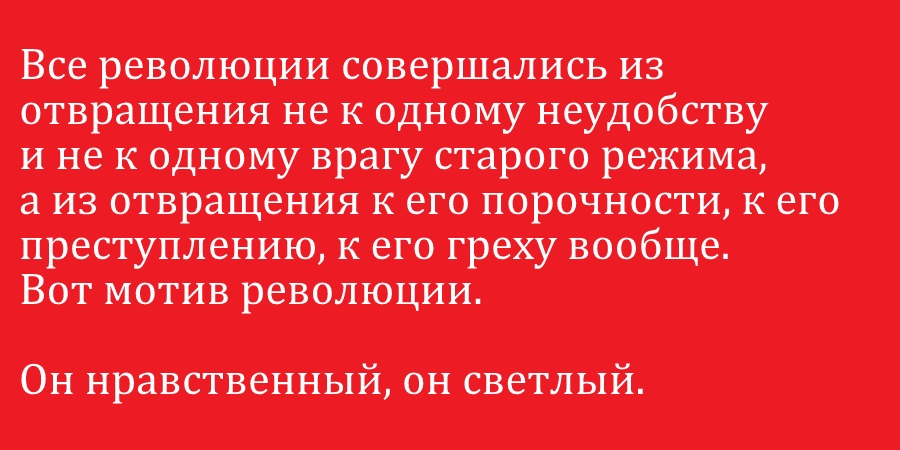
* * *
Буржуазия, фатально и роковым образом для себя сложившаяся, тоже виновная и без вины, кроме естественного желания себе “прибылей”, тем не менее сидела пауком над народом, высасывающим все соки из него просто по какой-то зоологическо-экономической натуре и по зоологическо-экономическому своему положению. “Так устроено”, тоже чуть ли не “по благодати”: и революция была единственною зарею, которая обещала сокрушение этого окаянного царства проклятой “благодати”. О, вот где терялась религия, Бог и все десять заповедей. Терялись – с радостью, терялись с единою надеждою: “потерять Бога” значило “найти все”. Потому что в человеческом сердце как-то живет: “Бога-то еще я не очень знаю, он туманен. Но мне на земле дано любить человека, прижаться к человеку: и если Бог этому мешает, если Бог не научает, как помочь человеку, – не надо и Бога”. Да и хуже, чем “не надо”: произносились слова такие, что и страшно повторить. И произносились – в детстве, а стариком страшно повторить.
* * *
Вообще революция уже на другое утро после совершения – пошла не по моральному пути. И вот это-то ее и губит. Это открывает вечность и моральных, и правовых, и логических законов. Они, эти законы, сильнее штыков и пуль. Но в эпоху, когда все свелось к обсуждению только политико-экономических законов, только одного марксизма, заработной платы и борьбы классов, никто не вспомнил о вечной морали, о добром поведении, о святости поступка, о героическом. И вот на этой-то болотной почве мы и проваливаемся.
Все думается, все не спится… И не спится оттого: думаешь, да отчего наша революция, которая как пламенем облила нашу землю – теперь пошла как-то неладно? Вот именно в ней нет чего-то ладного, гладкого, успешного. Левым дают много, а им все мало. Временное Правительство уступило или добровольно стало под надзор и подозрение Совета Рабочих и Солдатских Депутатов, а теперь Ленин и ленинцы уже оговаривают и Совет С. и Р. Д. в соединении или в потакании буржуазии? Нельзя даже объяснить, откуда могло вырасти такое потакание у солдат и рабочих, когда классовые интересы их так различны? Не подкупила же буржуазия Совет Р. и С. Д.? Во-первых, он неподкупен. А во-вторых, классовая вражда на экономической почве так люта, так остра, так непримирима – то что же тут толковать о подкупе и примирении. Явно, что Керенский и другие проговариваются о “изъятии из общественного оборота Ленина и ленинцев” не по своей близости с буржуазией, а по твердому убеждению своему, что задача революции – государственно и общественно строить, а Ленин и ленинцы производят государственное и общественное расстройство. Они мутят, смутьяны, и вводят смуту уже в саму революцию. Т. е. ее же явно губят.
С приездом Ленина начался явный переворот в революции. Прошли ее ясные дни. Вдруг повеяло вонью, разложением. До тех пор было все ясно, твердо, прямо.
Вдумаемся в эти первые, ясные дни. Может быть мы что-нибудь поймем в них. Все помнят поездку в Москву Керенского, после взятия бывшего государя под стражу; как министр юстиции, он заявил в Москве, что отныне смертная казнь в России совершенно отменяется. И какой это был светлый день, какой облегченный вздох пронесся по России. Это был лучший день революции, – ее решимость не быть кровавой, не быть мстительной. Быть русскою революциею, быть снисходительною, прощающею, мягкою революцией. Это вполне возможно, чтобы революция была вообще нравственно доброю революциею, чтобы она вообще светила нравственным светом. Не скрыт ли в этом требовании ключ от действительности?
Сердце человеческое вечно, сердце человеческое ищет света. Скажите, какой смысл в самой революции, если мы не кидаемся через нее к свету, к добру, к правде? Если через революцию мы не выходим из какого-то мрака, удушья, погреба? Ведь через это собственно начинались все революции, из отвращения не к одному неудобству и не к одному врагу старого режима, а из отвращения к его порочности, к его преступлению, к его греху вообще. Вот мотив революции. Он нравственный, он светлый. Поэтому революция прежде всего не должна уметь лгать. Во-вторых, она не должна быть труслива. Это непереносимо для революции просто как для нового, свежего явления; как для явления молодого и крепкого.
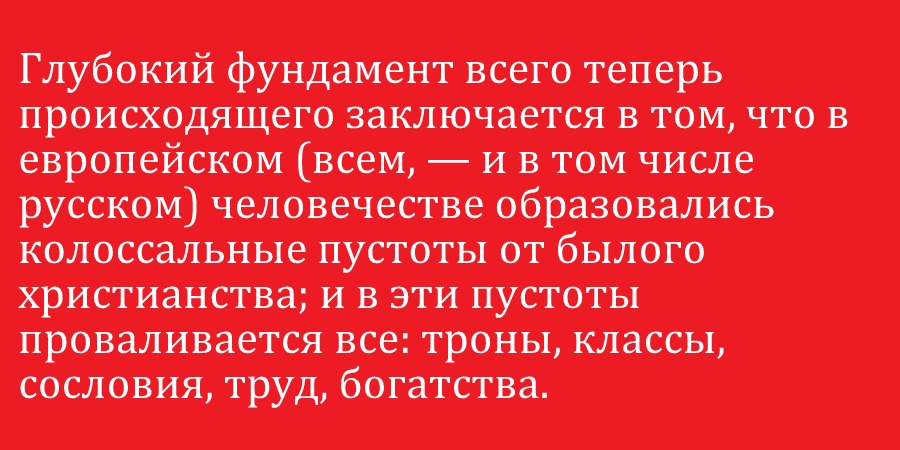
* * *
Нет сомнения, что глубокий фундамент всего теперь происходящего заключается в том, что в европейском (всем, — и в том числе русском) человечестве образовались колоссальные пустоты от былого христианства; и в эти пустоты проваливается все· троны, классы, сословия, труд, богатства. Всё потрясено, все потрясены. Все гибнут, всё гибнет. Но все это проваливается в пустоту души, которая лишилась древнего содержания.
И вот рушилось все, разом, царство и церковь. Попам лишь непонятно, что церковь разбилась еще ужаснее, чем царство. Царь выше духовенства. Он не ломался, не лгал. Но, видя, что народ и солдатчина так ужасно отреклись от него, так предали (ради гнусной распутинской истории), и тоже — дворянство (Родзянко), как и всегда фальшивое «представительство», и тоже — и «господа купцы», — написал просто, что, в сущности, он отрекается от такого подлого народа. И стал (в Царском) колоть лед. Это разумно, прекрасно и полномочно.
Но Церковь? Этот-то Андрей Уфимский? Да и все. Раньше их было «32 иерея» с желанием «свободной церкви» «на канонах поставленной». Но теперь все 33333… 2…2…2…2 иерея и под-иерея и сверх-иерея подскочили под социалиста, под жида и не под жида; и стали вопиять, глаголать и сочинять, что «церковь Христова и всегда была, в сущности, социалистической» и что особенно она уж никогда не была монархической, а вот только Петр Великий «принудил нас лгать».
Русь слиняла в два дня. Самое большее — в три. Даже «Новое Время» нельзя было закрыть так скоро, как закрылась Русь. Поразительно, что она разом рассыпалась вся, до подробностей, до частностей. И собственно, подобного потрясения никогда не бывало, не исключая «Великого переселения народов». Там была — эпоха, «два или три века». Здесь — три дня, кажется даже два. Не осталось Царства, не осталось Церкви, не осталось войска, и не осталось рабочего класса. Что же осталось-то? Странным образом — буквально ничего.
Остался подлый народ, из коих вот один, старик лет 60 «и такой серьезный», Новгородской губернии, выразился: «Из бывшего царя надо бы кожу по одному ремню тянуть». Т. е. не сразу сорвать кожу, как индейцы скальп, но надо по-русски вырезывать из его кожи ленточка за ленточкой.
И что́ ему царь сделал, этому «серьезному мужичку».
Вот и Достоевский…
Вот тебе и Толстой, и Алпатыч, и «Война и мир».
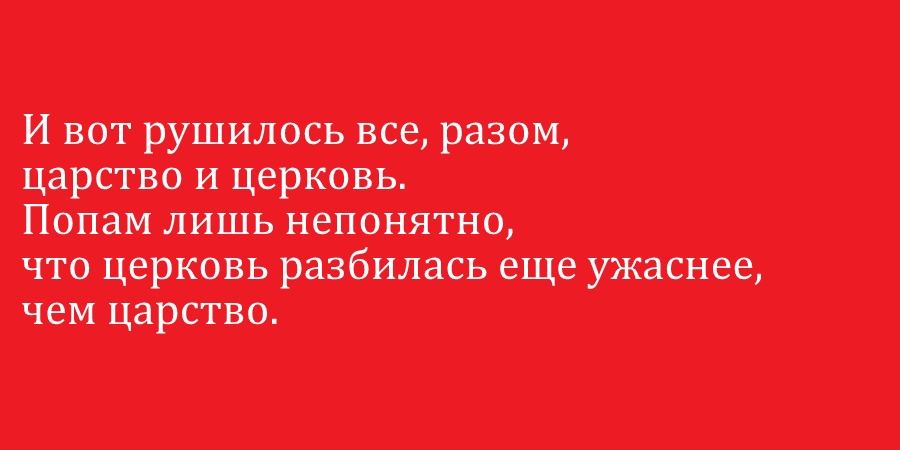
Что же, в сущности, произошло? Мы все шалили. Мы шалили под солнцем и на земле, не думая, что солнце видит и земля слушает. Серьезен никто не был, и, в сущности, цари были серьезнее всех, так как даже Павел, при его способностях, еще «трудился» и был рыцарь. И, как это нередко случается, — «жертвою пал невинный». Вечная история, и все сводится к Израилю и его тайнам. Но оставим Израиля, сегодня дело до Руси. Мы, в сущности, играли в литературе. «Так хорошо написал». И все дело было в том, что «хорошо написал», а что «написал» — до этого никому дела не было. По содержанию литература русская есть такая мерзость, — такая мерзость бесстыдства и наглости, — как ни единая литература. В большом Царстве, с большою силою, при народе трудолюбивом, смышленом, покорном, что она сделала? Она не выучила и не внушила выучить — чтобы этот народ хотя научили гвоздь выковывать, серп исполнить, косу для косьбы сделать («вывозим косы из Австрии» — география). Народ рос совершенно первобытно с Петра Великого, а литература занималась только, «как они любили» и «о чем разговаривали». И все «разговаривали» и только «разговаривали», и только «любили» и еще «любили».
Никто не занялся тем (и я не читал в журналах ни одной статьи — и в газетах тоже ни одной статьи), что в России нет ни одного аптекарского магазина, т. е. сделанного и торгуемого русским человеком, — что мы не умеем из морских трав извлекать йоду, а горчишники у нас «французские», потому что русские всечеловеки не умеют даже намазать горчицы, разведенной на бумаге с закреплением ее «крепости», «духа». Что же мы умеем? А вот, видите ли, мы умеем «любить», как Вронский Анну, и Литвинов Ирину, и Лежнев Лизу, и Обломов Ольгу. Боже, но любить нужно в семье; но в семье мы, кажется, не особенно любили, и, пожалуй, тут тоже вмешался чертов бракоразводный процесс («люби по долгу, а не по любви»). И вот церковь-то первая и развалилась, и, ей-ей, это кстати, и «по закону»…
Ну что же: пришла смерть, и, значит, пришло время смерти.
Смерть, могила для 1/6 части земной суши. «Простое этнографическое существование для былого Русского Царства и империи», о котором уже поговаривают, читают лекции, о котором могут думать, с которым, в сущности, мирятся. Какие–то «полабские славяне», в которых преобразуется былая Русь.
«Былая Русь»… Как это выговорить? А уже выговаривается.
Печаль не в смерти. «Человек умирает не когда он созрел, а когда он доспел». Т. е. когда жизненные соки его пришли к состоянию, при котором смерть становится необходима и неизбежна.
Если нет смерти человека «без воли Божией», то как мы могли бы допустить, могли бы подумать, что может настать смерть народная, царственная «без воли Божией»? И в этом весь вопрос. Значит, Бог не захотел более быть Руси. Он гонит ее из-под солнца. «Уйдите, ненужные люди».
Почему мы «ненужные»?
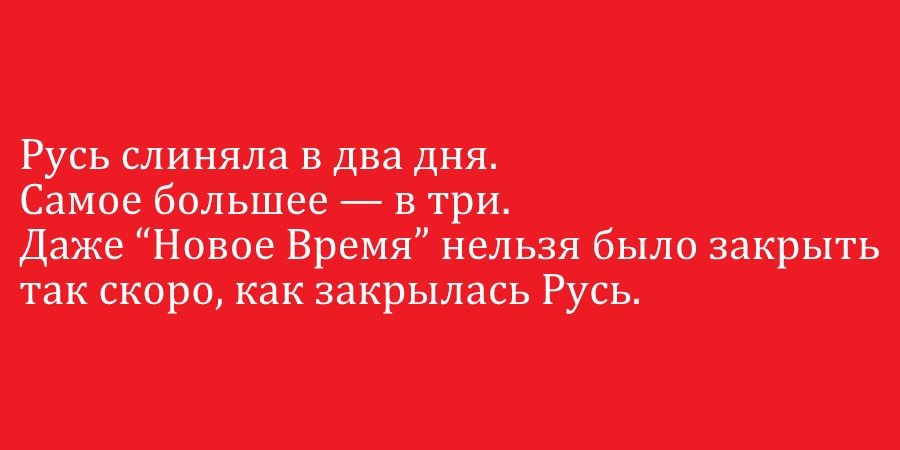
Да уж давно мы писали в «золотой своей литературе»: «Дневник лишнего человека», «Записки ненужного человека». Тоже — «праздного человека». Выдумали «подполья» всякие… Мы как–то прятались от света солнечного, точно стыдясь за себя.
Человек, который стыдится себя? — разве от него не застыдится солнце? — Солнышко и человек — в связи.
Значит, мы «не нужны» в подсолнечной и уходим в какую–то ночь. Ночь. Небытие. Могила.
Мы умираем как фанфароны, как актеры. «Ни креста, ни молитвы». Уж если при смерти чьей нет креста и молитвы — то это у русских. И странно. Всю жизнь крестились, богомолились: вдруг смерть — и мы сбросили крест. «Просто как православным человеком русский никогда не живал». Переход в социализм и, значит, в полный атеизм совершился у мужиков, у солдат до того легко, точно «в баню сходили и окатились новой водой». Это — совершенно точно, это действительность, а не дикий кошмар.
Собственно, отчего мы умираем? Нет, в самом деле, — как выразить в одном слове, собрать в одну точку? Мы умираем от единственной и основательной причины: неуважения себя. Мы, собственно, самоубиваемся. Не столько «солнышко нас гонит», сколько мы сами гоним себя. «Уйди ты, черт».
Нигилизм… Это и есть нигилизм, — имя, которым давно окрестил себя русский человек, или, вернее, — имя, в которое он раскрестился.
— Ты кто? Блуждающий в подсолнечной?
— Я нигилист.
— Я только делал вид, что молился.
— Я только делал вид, что живу в царстве.
— На самом деле — я сам себе свой человек.
— Я рабочий трубочного завода, а до остального мне дела нет.
— Мне бы поменьше работать.
— Мне бы побольше гулять.
— А мне бы не воевать.
И солдат бросает ружье. Рабочий уходит от станка.
— Земля — она должна сама родить.
И уходит от земли.
— Известно, земля Божия. Она всем поровну.
Да, но не Божий ты человек. И земля, на которую ты надеешься, ничего тебе не даст. И за то, что она не даст тебе, ты обагришь ее кровью.
Земля есть Каинова, и земля есть Авелева. И твоя, русский, земля есть Каинова. Ты проклял свою землю, и земля прокляла тебя. Вот нигилизм и его формула.
И солнышко не светит на черного человека. Черный человек ему не нужен.

Замечательно, что мы уходим в землю упоенные. Мы начинали войну самоупоенные: помните, этот август месяц, и встречу Царя с народом, где было все притворно? И победы, — где самая замечательная была победа казака Крючкова, по обыкновению отрубившего семь голов у немцев. И это меньшиковское храброе — «Должны победить». И Долиной — победные концерты, в цирке Чинизелли и потом в Царском. Да почему «должны победить»? Победа создается не на войне, а в мирное время. А мы в мирное время ничего не делали, и уж если что мы знали хорошо, то это — то, что равно ничего не делаем. Но дальше — еще лучше. Уж если чем мы упились восторженно, то это — революцией. «Полное исполнение желаний». Нет, в самом деле: чем мы не сыты. «Уж сам жаждущий когда утолился, и голодный — насытился, то это в революцию». И вот еще не износил революционер первых сапогов — как трупом валится в могилу. Не актер ли? Не фанфарон ли? И где же наши молитвы? и где же наши кресты? «Ни один поп не отпел бы такого покойника».
Это колдун, оборотень, а не живой. В нем живой души нет и не было.
— Нигилист.
О нигилистах панихид не правят. Ограничиваются: «Ну его к черту».
Окаянна была жизнь его, окаянна и смерть.
1/6 часть суши. Упоенная революция, как упоенна была и война. «Мы победим». О, непременно. Так не есть ли это страшный факт, что 1/6 часть суши как–то все произращала из себя «волчцы и тернии», пока солнышко не сказало: «Мне не надо тебя». «Мне надоело светить на пустую землю».
Нигилизм. — «Что же растет из тебя?»
— Ничего.
Над «ничего» и толковать не́ о чем.
— Мы не уважали себя. Суть Руси, что она не уважает себя.
Это понятно. Можно уважать труд и пот, а мы не потели и не трудились. И то, что мы не трудились и не потели, и есть источник, что земля сбросила нас с себя, планета сбросила.
По заслугам ли?
Слишком.
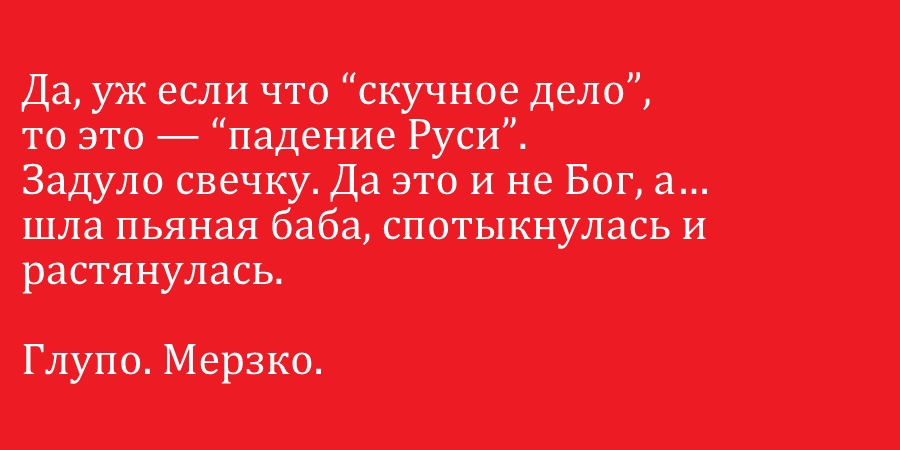
Как 1000 лет существовать, прожить княжества, прожить царство, империю, со всеми прийти в связь, надеть плюмажи, шляпу, сделать богомольный вид: выругаться, собственно, — выругать самого себя «нигилистом» (потому что по–нормальному это ведь есть ругательство) и умереть.
Россия похожа на ложного генерала, над которым какой–то ложный поп поет панихиду «На самом же деле это был беглый актер из провинциального театра».
Самое разительное и показующее все дело, всю суть его, самую сутеньку — заключается в том, что «ничего, в сущности, не произошло». «Но все — рассыпалось». Что такое совершилось для падения Царства? Буквально, — оно пало в будень. Шла какая–то «середа», ничем не отличаясь от других. Ни — воскресенья, ни — субботы, ни хотя бы мусульманской пятницы. Буквально, Бог плюнул и задул свечку. Не хватало провизии, и около лавочек образовались хвосты. Да, была оппозиция. Да, царь скапризничал. Но когда же на Руси «хватало» чего–нибудь без труда еврея и без труда немца? когда же у нас не было оппозиции? и когда царь не капризничал? О, тоскливая пятница или понедельник, вторник…
Можно же умереть так тоскливо, вонюче, скверно. — «Актер, ты бы хоть жест какой сделал. Ведь ты всегда был с готовностью на Гамлета». «Помнишь свои фразы? А то даже Леонид Андреев ничего не выплюнул. Полная проза».
Да, уж если что «скучное дело», то это — «падение Руси».
Задуло свечку. Да это и не Бог, а… шла пьяная баба, спотыкнулась и растянулась. Глупо. Мерзко. «Ты нам трагедий не играй, а подавай водевиль».
Не довольно ли писать о нашей вонючей Революции, — и о прогнившем насквозь Царстве, — которые воистину стоят друг друга. И — вернуться к временам стройным, к временам ответственным, к временам страшным…
Вот — Апокалипсис… Таинственная книга, от которой обжигается язык, когда читаешь ее, не умеет сердце дышать… умирает весь состав человеческий, умирает и вновь воскресает… Он открывается с первых же строк судом над церквами Христовыми.

Если же окинуть всю вообще компоновку Апокалипсиса и спросить себя: — «да в чем же дело, какая тайна суда над церквами, откуда гнев, ярость, прямо рев Апокалипсиса» (ибо это книга ревущая и стонущая), то мы как раз уткнемся в наши времена: да — в бессилии христианства устроить жизнь человеческую, — дать «земную жизнь», именно — земную, тяжелую, скорбную. Что и выразилось к нашей минуте, — именно к нашей, теперешней… в которую «Христос не провозит хлеба, а — железные дороги», выразимся уже мы цинично и грубо. Христианство вдруг все позабыли, в один момент, — мужики, солдаты, — потому что оно не вспомоществует; что оно не предупредило ни войны, ни бесхлебицы. И только все поет, и только все поет. Как певичка. «Слушали мы вас, слушали. И перестали слушать».
Ужас, о котором еще не догадываются, больше, чем он есть: что не грудь человеческая сгноила христианство, а христианство сгноило грудь человеческую. Вот рев Апокалипсиса. Без этого не было бы «земли новой» и «неба нового». Без этого не было бы вообще Апокалипсиса.
* * *
Nihil в его тайне. Чудовищной, неисповедимой… Тьма истории. Всему конец. Безмолвие. Вздох. Молитва. Рост… Ах: так вот откуда в Библии так странно, “концом на перед”, изречено: “и бысть вечер (тьма, мгла, смерть) и бысть утро — День первый”. Строение Дня и вместе устройство Мира. Боже. Боже… Какие тайны. Какая Судьба. Какое утешение. А я-то скорблю, как в могиле. А эта могила есть мое Воскресение.
Вышеприведенный текст — компиляция из книг Розанова «Черный огонь», «Религия и культура», «Листва».




