
Мир охвачен пандемией: стремительно распространяется неизлечимая болезнь — синдром Гувера-Джонса (СДГ). Она поражает только детей и подростков. Власти решают закрыть хосписы для пациентов со СДГ. Священник Глеб, переводчик с древних языков Иван и медсестра Вероника вместе с врачами и родителями решают не покидать хоспис, закрываются в нем, как в крепости…
Stabat Mater — «Матерь скорбящая», молитвенная песнь, написанная на латыни в Средние века, в двадцати куплетах которой говорится о душевных муках Богородицы, видящей страдания распятого Иисуса, дала название новому роману Руслана Козлова. Публикуем отрывок из него.
11 апреля. Лазарева суббота
Иеромонах Глеб
Стою в притворе. Жду, когда из храма и ризницы вынесут все привезенное к визиту Владыки. Иподьяконы снуют с облачениями, утварью, тащат квадратный ящик кафедры, обитый красным ковролином, везут на тележке микрофоны и динамики, которые не понадобились в маленьком храме. На меня никто не смотрит.
Присаживаюсь на «Ванино место» — в одну из ниш, где меня обычно дожидается Иван Николаевич. В эти ниши хотели повесить иконы, но не успели — и так было слишком много всего к приезду Владыки. А уж последние сутки прошли в такой суете, что я не спал ни минуты. Сейчас в моей голове гудят последние слова Владыки: «Знай, на что замахиваешься, и помни, кому тем служишь». Для него я — уже отступник, уже враг…
Вдруг всплывает в памяти недавний неприятный эпизод. Я был у Алеши, и он рассказывал мне сны про своего ангела, который теперь все время молчит, и Алеше кажется, что ангел не хочет говорить о чем-то страшном… И тут в палате появился этот тип с розовыми волосами — какой-то весь дерганый, с неприятным старческим лицом. Не обращая на меня внимания, подошел к Алеше, стал подключать капельницу. И прямо перед моими глазами оказалась черная татуировка на его руке. Я узнал мрачную иллюстрацию из Ветхого Завета — падение денницы, ангела-отступника, низверженного с небес и ставшего князем тьмы. Мне стало не по себе. Если впечатлительный Алеша тоже заметит эту татуировку, она наверняка испугает его. Но Алеша, к счастью, смотрел не на руки, а на лицо странного типа, на его крашеные волосы и серьги в ушах. И тип улыбнулся ему щербатой, морщинистой улыбкой. А мне подмигнул — фамильярно и развязно. Я был рад, когда он наконец убрался из палаты, и сразу решил поговорить с Диной Маратовной, чтобы она велела ему по крайней мере прятать его неуместные татуировки. Но, конечно, забыл сделать это в суете перед приездом Владыки.
И вот теперь низверженный ангел опять стоит у меня перед глазами — и не в виде книжной иллюстрации, а именно как черная татуировка, дергающаяся на коже того малахольного медбрата…
В голове все мешается… Почему так подкосил меня разговор с Владыкой? Какое оружие, какую разящую истину он обнажил, чтобы убить меня?.. То, что этот разговор подтолкнул меня к дерзости? Нет, не это самое страшное. Я высказал то, что думаю, и скрывать эти мысли было бы еще худшим лукавством… Нет, убивающая истина в том, что я — клятвопреступник. Я нарушил первый монашеский обет — послушание. Впал в самый тяжкий грех, прародитель всех грехов, — в гордыню. Не важно, что я говорил, в чем был прав или не прав. Одно слово возражения духовнику — и я уже гордец, уже не монах, уже запятнал свое священство… Но главное — я потерял духовного отца! Вот что терзает меня больше всего — мое сиротство, мое одиночество, к которому я оказался совсем не готов. Господь послал мне такого духовника, а я не смог удержаться под его рукой, стал блудным, преступным, отвергнутым сыном… И теперь во мне бродят страшные мысли: раз я уже преступник, надо падать до конца, до черного дна, надо опубликовать то проклятое обращение — заорать из бездны, начать открытую войну…

Артемий сталкивается в дверях с иподьяконом, несущим облачения, протискивается мимо него в притвор, бросается ко мне:
— Братец, что ты натворил! Владыка звонил мне… О чем вы говорили? Что его так разгневало?
— Я просил его выступить против закрытия хосписов, — говорю я, почему-то опустив глаза и глядя в пол, как нашкодивший семинарист.
— Что?.. Что просил? Выступить? Владыку?! — Артемий прижимает руки к груди. — Ты с ума сошел! Как ты себе это представляешь? Все уже решено, машина запущена.
Во мне начинает закипать глухое раздражение.
— Да, машина, — повторяю я. — Машину не остановить. Даже если лечь под ее колеса…
Поднимаю глаза на Артемия, вижу его встревоженное лицо.
— Глеб, — тихо говорит он, — что с тобой? Мне страшно смотреть на тебя, брат… Так… Давай всё потом. Тебе надо отдохнуть. Я позвоню, я приеду, мы поговорим… Ради Бога, пока не делай ничего. И не говори ни с кем из наших… Я позвоню тебе…
Он отходит, пятясь, делая руками странные движения, будто придерживая меня на расстоянии. Так пятятся от чего-то опасного. Уже в дверях он сокрушенно качает головой и зачем-то закрывает за собой тяжелые кованые двери. Створки глухо скрипят под его руками — грррр… Вот уж как готовились встречать Святейшего, всё предусмотрели, обо всем подумали, а двери так и не смазали… Впрочем, оно и ни к чему, все двери перед Святейшим всегда — настежь. Ему не надо стучаться даже в самые высокие кабинеты, ему открыт путь ко всем трибунам, его слову нет преград. Но при этом ни Артемий, ни все они даже не представляют себе Владыку, возвысившего голос против власти… Господи — «они»! Я уже говорю «они». А только вчера самонадеянно говорил «мы», представляя себя частью большой и светлой силы. Где уж! Я отлучен, изгнан, теперь надо знать свое место. Я разжалован Владыкой в дворники. И это прозвучало в его устах даже без гнева, без сожаления, без боли от рвущейся духовной связи, а просто как барское «пшел вон». Что ж, проницательность не подвела Его Святейшество. Я — дворник. Мое дело — уборка. Значит, надо смести скопившийся сор и вышвырнуть его из этой душной избы!
Иду в ризницу, хватаю ноутбук, включаю. Открываю обращение, написанное Иваном Николаевичем, копирую текст. Теперь — на сайт Патриархии, на ту страницу, с которой им можно управлять. Место для обращения я выбрал заранее — в самом центре, где обычно красуются отчеты о патриарших богослужениях… Да что там! Я могу все отсюда смахнуть, оставив одно мое обращение. Вот так. И шрифт покрупнее!.. Предварительный просмотр… Подтвердить изменения?..
В дверь робко стучат. Кто там еще? Не все облачения забрали?.. Моя рука замирает над кнопкой Еnter. Прикрываю ноутбук, иду к двери, щелкаю замком… Передо мной — розовощекое лицо ксендза Марека.
— Падре, дзень добрый… Але не добрый? Я вем, тут хоспис больше не будзе? А як же дети?
Выхожу в притвор, почти отодвигая собой ксендза. Вдруг чувствую острое раздражение.
— Да, хоспис закрывают. Что будет с детьми? Не знаю… Марек, вот скажите, Бога ради, как могут в католических странах принимать законы о детской эвтаназии?!
Ксендз замирает, с тревогой смотрит на меня. В его глазах я вижу такое же неузнавание, какое видел в глазах Артемия, — будто я как-то резко и нехорошо изменился.
— Падре, что вы?.. То есть государственные законы… А Церковь не есть государство… Ватикан стал в сторону. Папа молчит. И вся Церковь так…
— А в Польше? — спрашиваю я. — Неужели и в Польше разрешена эвтаназия?
— Не, — мотает он головой. — У нас ешче нет. Но людзи едут в другие страны, везут туда детей… Там можно за деньги…
С минуту мы стоим, глядя мимо друг друга. Потом ксендз тяжело вздыхает:

— То страшно, падре… Был случай, что одни людзи в Германии сделали эвтаназия своему ребенку. Потом вышли из той клиники и выпили трутку… як то по-русски… яд. Оба нараз, чтобы умирач… Цо то есть, падре? То есть убийство ребенка и ешче потом убийство себя. Два смертных грех. Оба те людзи должны пойти в ад на вечны муки. Так але не? И дале так было, что женшчина умерла. А мужчшина — не. Так его взяли в другую клинику, где шаленцы… як то по-русски… безумные. И там пшивязали до кровати, и он так пшивязан дзень и ночь, як овца. Потому что ему не можно умирач. Потому что он не есть смертно больной и нет такой закон, чтобы дать ему умирач… Ох, падре! Якой ешче ад страшнее того можно ему измыслич? Яку вечну муку?.. Ох, Матка Боска, цо то будзе дале?
Ксендз достает платок, прикладывает к глазам, потом сморкается, тряся пухлыми щеками.
— Так цо, падре, ваш хоспис згинет? Ниц не можно зробич?
— Нет, ничего нельзя сделать, — я мотаю головой.
— Ниц не можно, — повторяет Марек. — Боже, змилуйсе!..
Возвращаюсь в ризницу.
Обращение распласталось на весь сайт Патриархии. Пока — только на моем экране. Enter? «Знай, на что замахиваешься, и помни, кому тем служишь…» Я захлопываю ноутбук, бегу в храм, опустевший после службы… Это — мой храм? На стенах пылают новые светильники, иконостас сверкает золотом. Даже новая плитка под ногами искрится золотыми вставками — необыкновенная, роскошная плитка, достойная дворцовых залов… Да, это мой храм. Но где мне помолиться в нем?.. Падаю на колени перед новопоставленным распятием. «Боже, очисти мя грешнаго, яко николиже сотворих благое пред Тобою, но избави мя от лукаваго, и да будет во мне воля Твоя… Господи, укрепи, вразуми! Что я могу сделать один против этой бездушной машины? Почему моя рука не поднимается хотя бы вставить палку в ее колесо? Я трус? Я еще надеюсь вернуться на свое место — место винтика в ее механизме? Я не решаюсь бесповоротно разрушить свою жизнь? Страшусь подтвердить свое отступничество, подставить лоб под клеймо предателя?.. Что есть предательство? Где граница между сохранением верности и соучастием в мерзости? Разве голос совести, не дающий переступить эту границу, не есть голос истины — истины, которая превыше всех неправедных судов, всех черных ярлыков и рабских клейм? Истины, которая, по слову Христа, одна лишь делает нас свободными?..»
Вздрагиваю, почувствовав чью-то руку на своем плече. Оборачиваюсь. Иван Николаевич. Сидит рядом со мной на корточках, трогает за плечо:
— Простите, отец Глеб. Я звал — вы не слышали… Я не один. С вами хотят поговорить, — он показывает рукой на двери в храм. Двери открываются шире, и входят несколько человек — четверо мужчин, две женщины. Их лица мне знакомы, но по именам никого не знаю. С одной из женщин я когда-то беседовал. Это мама Эрика — неунывающего, смешливого мальчишки. Расспрашивала меня, где ближайшая армянская церковь. Автоматически замечаю, что ни один из входящих не осеняет себя крестом, все только щурятся от яркого света и вертят головами, оглядывая храм. Потом в дверях появляется долговязая фигура Лёньки. Он один торопливо, словно стесняясь, крестится за спинами взрослых. За последние дни Лёнька еще больше похудел и ссутулился. Скулы обтянулись кожей. Но глаза смотрят с прежней дерзостью.
Встаю с колен, делаю несколько шагов навстречу вошедшим. Первым ко мне подходит мужчина с перебитым, сплющенным носом, странно сочетающимся с его длинными волосами, собранными сзади в хвост. Протягивает руку:
— Слава.
— Глеб. — Я едва могу обхватить пальцами его широкую ладонь, похожую на зачерствевший каравай.
— Я отец этого фитиля. — Слава поворачивается к Лёньке, грубовато берет его за шею и подтаскивает вперед. — И с нами все тоже родители, — обводит он рукой вошедших. — Вроде как родительский комитет…
— Ух ты, богатенько! — раздается негромкий голос от двери. Вероника входит в храм, так же, как другие, щурится на яркие лампы и меряет взглядом иконостас: — Как тут всё теперь… Пожалуй, если бы эти деньги были на хоспис потрачены, то мы бы еще полгодика продержались. А то и годик… Простите, отец Глеб, странно это все…
Вероника подходит и встает рядом с Иваном Николаевичем. Родителей ее слова заставляют еще раз оглядеть храм. Некоторые согласно кивают — да, правда, странно.
— Мы хотели вас спросить, — продолжает Слава, — можно ли ждать помощи от вашего церковного начальника, который сегодня приезжал? Я про то, что хосписы закрывают…
— Нет, — говорю я, подняв на него глаза. — Помощи не будет.
— Ясно, — кивает он. — Ясно… Вы, наверное, в курсе… Нам, то есть всем родителям, бумажки раздали и по мейлу написали, что хоспис закрывается — вроде как на реконструкцию, и надо детей забрать в трехдневный срок. Но мы понимаем, что это навсегда. И решили — подчиняться не будем. И в наш родительский чат написали — кто хочет, пусть присоединяется. Мы отсюда не уйдем, все соберемся и будем тут. Посмотрим, что они сделают…
— И вы можете нам помочь, святой… святой отец! — это вступает мама Эрика. — Нужно, чтобы как можно больше людей узнали про нас. А Ника сказала, что вы в этом разбираетесь — как поднять волну в прессе, в интернете…

Я перевожу взгляд на Веронику, на Ивана Николаевича. Они смотрят на меня: Иван Николаевич — с надеждой, Вероника — с вызовом. И снова, как во время разговора в беседке, веет от них каким-то необъяснимым живительным теплом, словно я выбрался из ледяного склепа на солнечную поляну.
— Да, — говорю я, повернувшись к родителям. — Да, я смогу помочь… Уже написано обращение — протест против закрытия хосписов. Сейчас я вам отдам его, и вы соберете подписи родителей. Возможно, кто-то из наших сотрудников тоже подпишет, — я поворачиваюсь к Веронике. — А потом разместим это обращение там, где его наверняка заметят. Еще — разошлем письма журналистам. В корпункты иностранных изданий сможем написать на разных языках. Назначим время и обратимся к прессе прямо отсюда, от дверей хосписа…
— Разгонят, — качает головой мужчина в потертой кожаной куртке.
— Может, и разгонят, — оглядывается на него Лёнькин отец. — А может, и не смогут. — Он роняет слова медленно, по одному, заполняя паузы сопением сломанного носа.
Выхожу из храма вслед за родителями — хочу найти Якова Романовича и поговорить с ним. Почему-то мне кажется, он не из тех, кто безропотно примет закрытие хосписа… Хотя уведомление родителям кто-то ведь разослал, и, наверное, — с его ведома…
В коридоре останавливаюсь — вижу, что Иван Николаевич ждет меня. Несколько секунд мы смотрим вслед Веронике, уходящей вместе с родителями. Она оборачивается и улыбается нам очень быстрой, но все же теплой, ободряющей улыбкой. А улыбнувшись, решительно сжимает губы, хмурит брови и вскидывает кулачок в приветственном жесте повстанцев — «Рот фронт!» Я знаю, что в кулачке у нее зажата флешка с текстом нашего обращения. Вероника распечатает его в ординаторской и отдаст родителям для сбора подписей…
— Отец Глеб, вы все же решились поставить наше обращение на сайт Патриархии?
— Нет, — качаю я головой. — Я не буду этого делать… Да, я сам попросил вас написать его и был уверен, что решусь на его скандальную публикацию, но… Иван Николаевич… Это неправильно. Это — из разряда их методов. А мы не должны пачкаться такими вещами… Знаете, сегодня меня дважды что-то подталкивало к этому шагу и дважды что-то останавливало. И я чувствовал эту борьбу не только в себе, но и где-то вовне — как борьбу за меня… Нет, так нельзя! Даже самая благая цель не должна достигаться подлыми методами. Иначе она перестанет быть благой. Хотя вроде бы это глупо — честно драться с бесчестными. Это же заведомое поражение! Но и начать драться по их правилам — тоже поражение, и даже худшее, потому что станешь одним из них. А проиграв честно, все-таки останешься собой…
Иван Николаевич слушает, опустив глаза, согласно кивает. И, помолчав, грустно говорит:
— Значит, у добра нет надежды, нет выбора? Стать частью зла или погибнуть — это ведь не выбор, это тупик… Понятно, что убивать нехорошо, тем более — ударом в спину. И конечно, вы правы, не желая пачкаться бесчестными методами. Правы — для себя лично. Но вот, предположим, за вами идут люди, которые хотят победить зло. А вы ведете их в бой со связанными руками, ведете на верную смерть, по сути — на самоубийство… И точно так же Бог — чего Он хочет от нас? Мы — Его армия, призванная сражаться со злом? Или мы — жертвенные овцы, гонимые на убой?.. Каков мудрый план верховного командования — послать нас на войну без единого патрона? С картонными мечами? С паническим страхом замараться кровью врагов?.. Армия добра — разве это не оксюморон, не бессмыслица?
— Иван Николаевич, — я жестом останавливаю его. — Это невероятно важный разговор. Но его нельзя вести на ходу, в коридоре. Мне кажется, у меня есть ответы на эти вопросы. И мы обязательно вернемся к ним. Тем более я сам их затронул. А наше обращение… Я смогу сделать так, чтобы оно прозвучало. Есть независимые сайты, есть издания, не до конца подмятые властями. А главное — теперь слова будут подкрепляться действиями…
— Вы имеете в виду этот родительский бунт? — Иван Николаевич внимательно смотрит на меня. — А что, если он не будет мирным и бескровным? Такое ведь возможно, правда? Вы, наверное, и сами чувствуете нарастающее ожесточение. И тогда… На что можно пойти для защиты этих детей? Что делать, когда их силой начнут выволакивать и выбрасывать отсюда?.. Вот лично вы — что будете делать? Помогут ли вам определиться те ответы, которые у вас, как вы говорите, есть? — Иван Николаевич замолкает, в который раз нервно поправляет сползающие очки. — Очень, очень на это надеюсь, отец Глеб. Потому что эти ответы будут нужны не только вам. Мне — так уж точно!..
Он, не прощаясь, поворачивается и идет к главной лестнице. Снова отмечаю его привычку ходить по-арестантски — ссутулившись и заложив руки за спину.
Главврача в хосписе нет — уехал, никому ничего не сказав.
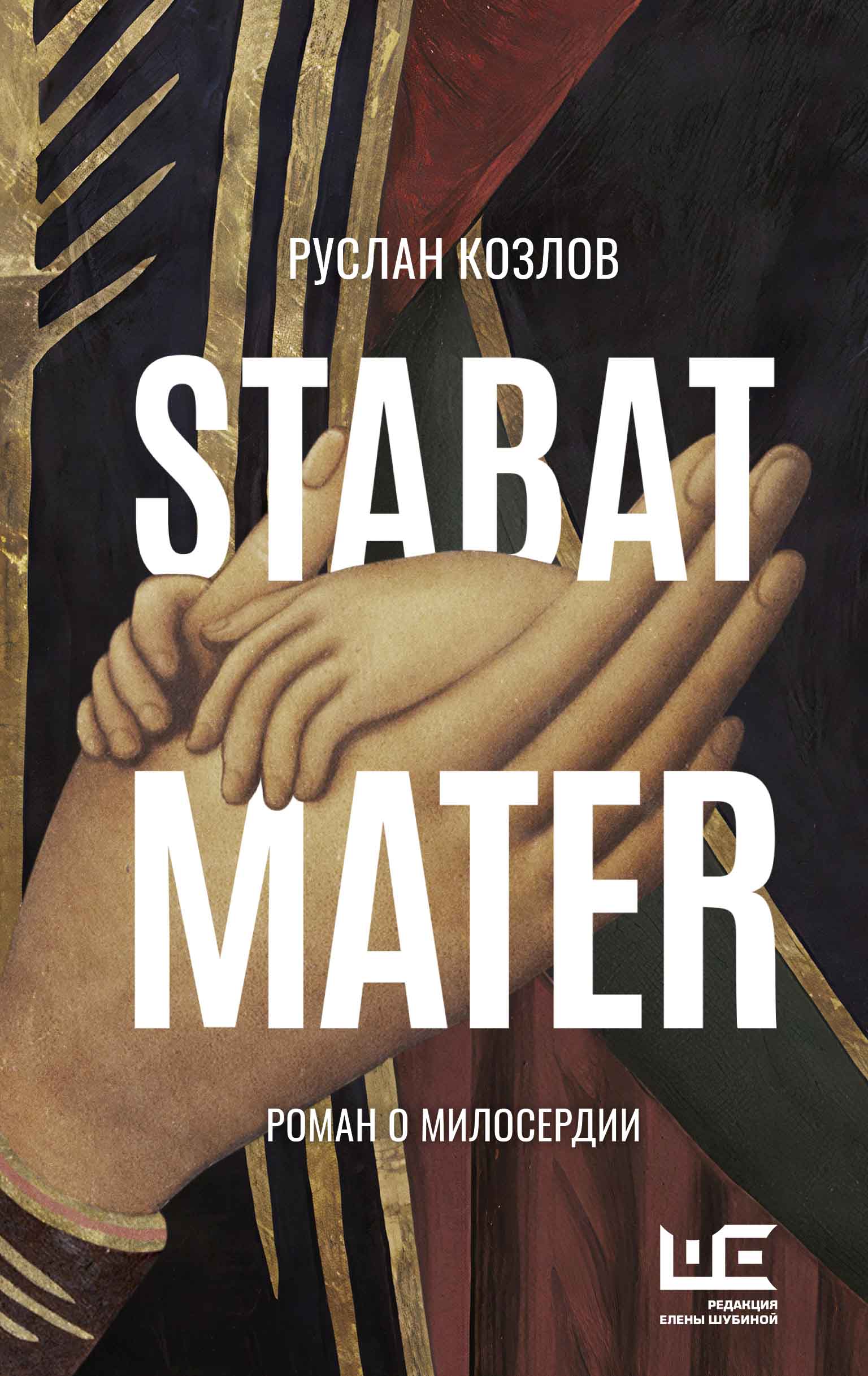
Спускаюсь от его кабинета по боковой лестнице. Она перетекает в нижний коридор рядом со странным помещением, сплошь утыканным колоннами разной формы — гладкими, ребристыми, витыми. Для чего оно служило хозяину черного замка — неясно. Похоже, здесь был зал для ритуалов их тайного общества. Руководство хосписа тоже не смогло додуматься, как использовать эту нелепую колоннаду, и превратило ее в склад сломанных кроватей, списанной аппаратуры, старых шкафов… Зато дети сразу поняли, что лучшего места для игры в прятки не найти. Вот и сейчас из колоннады звучат детские голоса… Но звучат как-то странно — сначала негромко переговариваются, потом замолкают, и один голос начинает твердить: «Стабат матер долороза юкста круцем лакримоза…» Опять тихий разговор, и опять четкое: «Стабат матер долороза…» Я в замешательстве останавливаюсь. Это латынь. В голове мелькает дикая мысль: ксендз Марек готовит детей к мессе? Но тут я вижу Марека, стоящего за ближайшей колонной. Он прижимается к ней спиной, глядит куда-то вверх и слушает детские голоса. На его румяном лице застыло выражение, будто он вот-вот опять расплачется. Заметив меня, ксендз прикладывает палец к губам.
Я тихо подхожу и встаю рядом, шепотом спрашиваю:
— Что здесь такое?
Марек жестом предлагает мне выглянуть из-за колонны, и я вижу, что дети стоят кружком, а Зося тычет всех в грудь и чеканит:
— Стабат-матер-долороза-юкста-круцем-лакримоза-дум-пендэбат-филиус…
На последнем слове она толкает кого-то из детей сильнее, и тот выходит из круга… Господи! Да они просто собрались играть в прятки и выбирают, кому водить.
Марек растроганно шепчет:
— Заправде, падре… Никогда ешче я не слышал лучшего исполнения «Стабат Матер»!
Из книги «Stabat Mater. Роман о милосердии». — М.: Редакция Елены Шубиной, 2022



