Еще одно свидетельство о революционной эпохе России — Сергея Фуделя из его замечательных книг «Воспоминания» и «У стен Церкви». Тексты кристальной церковной чистоты: критика дореволюционной церковности, первые годы Революции — время «великой церковной свободы» и «духовной весны», описание гонений, но главное — настоящая святость, настоящая вера, настоящее христианство, настоящая Церковь.
Некоторые молодые христиане без разбору принимают за подлинное все то, что было в дореволюционной церковной литературе. Это ошибка, опасная для духовного здоровья. То зло, которое мы видим в современной церковной ограде: равнодушие к человеку, внешность во всем, — и в подвиге (если он есть), и в молитве, — стирание границ между церковью и государством, обмирщение, богословский рационализм, жизнь по плоти, а не по духу Божию — все это есть наследство, полученное от прошлого. Мой отец был очень правоверный священник, ученик Оптинских старцев и Леонтьева, но я помню, как он страдал в душном предгрозовом воздухе дореволюционной церковности.
Приведу несколько строк из воспоминаний об отце одной его близкой духовной дочери.
«Перед первой мировой войной, — пишет она, — о. Иосиф пережил какое–то большое, потрясающее переживание. Об этом мне рассказывала его жена после его смерти (в 1918 г.). Она помнила, как о. Иосиф сидел у углового окна, выходящего на Арбат, и, гладя не перспективу улицы, точно на перспективу истории, говорил о своей потере веры в страну… «Я верил, что русский народ носитель православия. Было, может быть, и ушло». В начале мировой войны 1914 года была мечта о «Кресте на св. Софии» (в Константинополе). Еще до того, как исторически стало ясно, что это неисполнимо, о. Иосиф говорил: «Зачем нам св. София? Кто в нее войдет? Распутин!?»
Дореволюционная церковность все больше теряла любовь и святость.

Лет двадцать пять тому назад я жил в провинции в доме одного бывшего обер-кондуктора. Уйдя в отставку, он мирно жил со своей старухой, сам тоже будучи стар, хотя типичные обер-кондукторские усы дореволюционного происхождения еще молодецки топорщились. Человек он был весьма благочестивый, еженедельно ходил в церковь и ежегодно говел. Однажды мы сидели с ним за чаем и беседовали. Сначала, помню, разговор шел о различных видах сбора “дани” старозаветными ревизорами с кондукторской бригады в виде, “так сказать, сливок с заячьего молока. Дедка, как я его тогда называл, с особым восхищением рассказывал об одном ревизоре, пользовавшемся таким способом: после обхода вагонов ревизор шел в купе к оберу и ложился спать, отвернувшись к стенке и поставив фуражку на противоположную лавку нутром кверху. Через некоторое время входил на цыпочках обер и клал в фуражку собранную с бригады дань. Еще через некоторое время он слегка отодвигал дверь и смотрел: если фуражка на месте – значит, мало.
Пили мы чай долго, и постепенно разговор перешел на серьезное – об умерших близких. И вот когда я сказал, что придет день, когда мы их снова встретим, я увидел, как в искреннем изумлении поднялись мохнатые дедкины брови: “Это вы как? Или всерьез? Ну, это все поповские сказки. Умрем – и шабаш, и все кончено! Ничего там не будет“.
Очевидно, для неверия можно и не быть Базаровым, а достаточно быть обер-кондуктором и при этом ежегодно говеть. Не наука нужна для неверия, а только холод сердца. Я много раз в жизни встречался с подобными фактами “неверия верующих”, но каждый раз эти факты потрясают.
В конце XIX века было такое дело. Деревенская девочка возвращалась после пасхальных каникул из дома в школу и несла с собой немного денег, корзиночку с домашними пирогами и несколько штук крашеных яиц. На дороге ее убили с целью ограбления. Убийца был тут же пойман, денег у него уже не нашли, пироги были уже съедены, но яйца остались. На случайный вопрос следователя, почему он не съел яйца, убийца ответил: «Как я мог? Ведь день был постный».
За спиной этого человека ясно видны звенья длинной цепи (почему-то мне хочется сказать «византийской»), уходящей в века. Оказывается, что можно числиться в Церкви, не веря в нее, можно считать себя православным, не зная Христа, можно верить в посты и в панихиду и не верить в загробную жизнь и в любовь.
Очень это, конечно, страшное дело, но мне представляется не менее страшным тот факт, что высоко над этими людьми, пропившими свою веру в ночных кабаках и на железнодорожных вокзалах дореволюционной России, стояли люди часто вполне порядочные, обладающие знанием и властью, саном и кругозором, которые все это величайшее духовное неблагополучие Церкви тщательно замазывали каким-то особым елеем словесной веры: «На Шипке древнего православия все спокойно». Ведь и дедка, наверное, мог прочесть «символ веры», а этот постящийся человек на дороге твердо отличал среду от четверга.
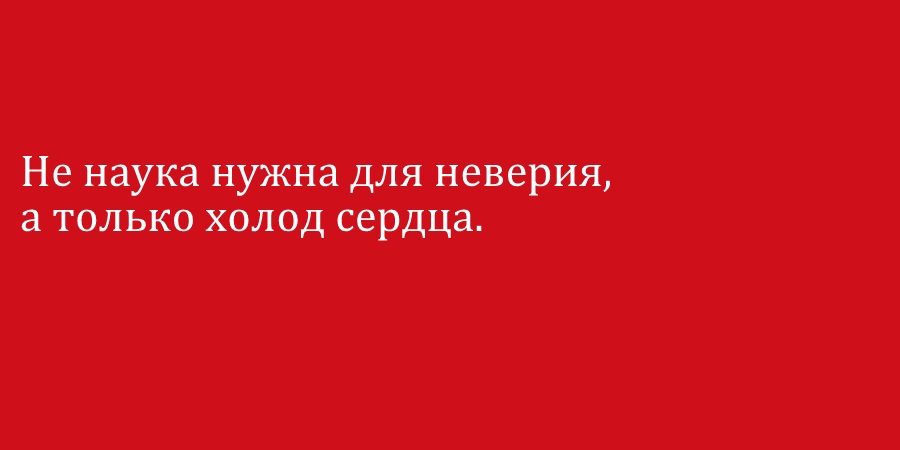
Когда началась революция 1905 года, и большинство пастырей были в смятении, так как слишком долго в их сознании сращивалось тело церкви с больным телом умирающего строя, он [отец Фуделя — Иосиф Фудель] сразу нашел правильное слово христианина, отвечающее на вопрос «что делать?». Вернуться к Христу – вот смысл ответа, который он вложил в одну из своих статей этого времени. Он пишет: «Ужас положения растет с каждым днем. Я говорю не о политическом положении страны, не о торжестве той или другой партии и даже не о голоде и нищете, неминуемо грозящих населению. Как пастырь церкви, я вижу ужас положения в том душевном настроении, которое постепенно овладевает всеми без исключения. Это настроение есть – ненависть. Вся атмосфера насыщена ею. Все дышит ею. Она растет с каждым часом: у одних к существующему порядку, у других – к забастовщикам; одна часть населения проникается ненавистью к другой… Чувствуется, что любовь иссякла… И в этом бесконечный ужас положения… К нам, пастырям церкви, обращаются наши прихожане с неотступной просьбой указать – где же выход, умоляют принять какие-либо меры умиротворения и спасения… У нас есть собственное оружие, которое всегда при нас и единственно только действенно к господствующему чувству. Это средство – общественная молитва к Господу Любви «о умножении в нас любви и искоренении ненависти и всякой злобы»… Что же? Неужели мы не воспользуемся нашим оружием? Или в нас оскудела вера в силу молитвы? Или же мы привыкли молиться только по указу консистории и будем ждать его?..».
Я не знаю, последовал ли «указ консистории» о молитве к Господу Любви, но даже в самом этом словосочетании есть уже точно какое-то кощунство. Очевидно, дело в этой области было очень плохо, и недаром еще «нотатки» старика Туберозова в «Соборянах» были политы горькими слезами одиночества и ужаса перед церковной действительностью. Этими же слезами полны письма еп. Игнатия Брянчанинова. «Все возрастающая бюрократизация церкви, – пишет Л. Тихомиров в своих воспоминаниях об отце, – пугала и предвещала недоброе». Он в этих воспоминаниях, между прочим, приводит один интересный факт. На Орловском миссионерском съезде 1901 года, где участником был и мой отец, была произнесена (М. Стаховичем) речь с цитированием стихов Хомякова:
Оттого что церковь Божию
Святотатственной рукой
Приковала ты к подножью
Власти суетной, земной…
У Хомякова это обращено к Англии, но в речи в Орле это было применено к царскому правительству в России.
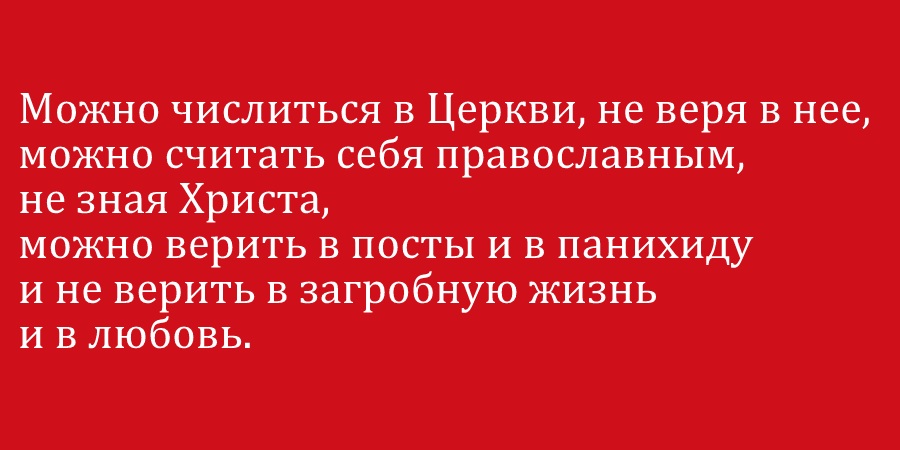
Письмо отца к свящ. М. Хитрову о школьной работе: «Настала пора отрешиться от мысли о непогрешимости программы церковноприходской школы. Мальчик, окончивший церковноприходскую школу, из всех дивных притчей Спасителя, в которых так осязательно выражено все учение христианское, обязан знать только три! Мальчик, вышедший из школы до окончания ее, ничего не знает о Лице Христа и учении Его, так как запрещается (подчеркнуто в письме) говорить об этом, пока не прошли Ветхого Завета. А между тем таких (подчеркнуто в письме) детей большинство, так как в селах не кончают курса до 60% учащихся! С чем же они выходят из школы? Ну не грустно ли все это?».
Если «без указания консистории» пастырям было невдомек молиться о любви, то, конечно, логично и то, что «запрещалось» говорить о христианстве, «пока не прошли Ветхого Завета».
Любимый каторжниками батюшка [отец Фуделя — Иосиф Фудель], наверное, уже давно вызывал недовольство начальства. Пятнадцать лет такой широкой христианской деятельности, не дожидавшейся «консисторских указов», закончились в 1907 году. Поводом к этому, очевидно, послужил отказ отца ввести политику в свою христианскую проповедь.
Сохранились копии отношений московского губернского тюремного инспектора и ответов на них отца. Первым отношением предлагалось организовать в коридорах тюрьмы беседы на духовно-нравственные темы с обязательным посещением их арестантами. Отец отвечал так: «Духовно-нравственные чтения и беседы велись всегда в тюремной церкви и школе. Вызывались для этого из числа арестантов только желающие, так как я не нахожу возможным принуждать (зачеркнуто более резкое: «насиловать совесть») кого-либо участвовать в духовно-нравственной беседе, ибо принуждение в этом случае не уменьшает, а укрепляет противорелигиозное настроение, в ком оно есть. В настоящее время такое настроение преобладающее среди каторжников, ибо из них более половины осуждены за политические преступления. Беседа на религиозные темы с такими людьми тотчас же переходит на почву социально-политическую и возбуждает страсти, а не умиротворяет».
В своем ответе на это тюремный инспектор указал, что «в последнем случае вина всецело лежит на священнике, не умеющем руководить беседами и умиротворять страсти… Обязанности тюремного священника не исчерпываются церковными службами и проповедями на узкой почве укрепления в заключенных начал православия…» «Вся нравственная жизнь заключенного… все помыслы и влечения сердца должны быть под моральным контролем тюремного пастыря». В заключение этого второго отношения говорится: «Конечно, здесь важен почин, энергия… и не казенное исправление должности священника, обязанного служить определенные дни за определенное вознаграждение при готовой квартире».
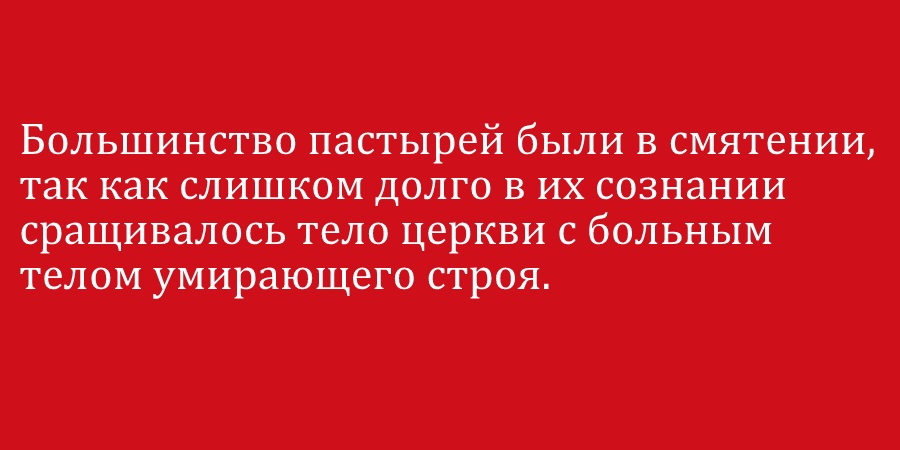
Эта переписка велась с февраля по апрель 1907 года, а в конце сентября этого же года «пресветлейший батюшка», как его называли каторжане, не считавший, что проповедь христианства есть «узкая почва», не пожелавший быть «моральным контролером» арестантских помышлений, не умевший «насиловать их совесть», да притом еще служивший «за определенное вознаграждение и при готовой квартире», переехал в маленький и бедный приход на Арбат.
Сейчас тем, кто не пережил этих лет – 1918-1920, – невозможно представить себе нашу тогдашнюю жизнь. Это была жизнь скудости во всем и какой-то великой темноты, среди которой, освещенный своими огнями, плыл свободный корабль Церкви. В России продолжалось старчество, то есть живое духовное руководство Оптиной пустыни и других монастырей. В Москве не только у о. Алексия Мечёва, но и во многих других храмах началась духовная весна, мы ее видели и ею дышали. В Лавре снимали тяжелую годуновскую ризу с рублевской “Троицы”, открывая божественную красоту. В Москве по церквам и в аудиториях вел свою проповедь Флоренский, все многообразие которой можно свести к одной самой нужной истине: о реальности духовного мира. В Московском университете еще можно было слушать лекции не только Челпанова, но даже и Бердяева, читавшего курс какой-то путаной, но все же “космической философии”. Он же потом (кажется, в 1921-м) основал “Вольную академию духовной культуры” (ошибка авторской памяти: “Вольная академия духовной культуры” была основана Н.А. Бердяевым зимой 1918/19 года. – В. П.). В Москву из Петербурга приехал на жительство Розанов, сразу присмиревший от пережитого и уехавший умирать в Сергиев Посад (В.В. Розанов переехал в Сергиев Посад в сентябре 1917 года, где спустя полтора года умер от истощения (1919). – В. П.). Я, помню, провожал его на Ярославском вокзале, и он все меня благодарил. Он был тогда такой самый простой старичок с хитрецой, вернувшийся по мудрому страху к “вере отцов” и, кстати, решивший из благодарности за проводы, что я и Коля Чернышев должны жениться на двух его дочерях, совершенно нам неизвестных.
Далеко, далеко от меня это время – скудости и богатства, темноты и духовного счастья. Когда-то митрополит Филарет Московский перестал ездить на заседания в Синод, говоря, что “шпоры генерала (то есть обер-прокурора) цепляют за мою мантию”. В то время, о котором я пишу, все шпоры были позади, и мы вдыхали полной грудью великую церковную свободу. А скудость была большая, попросту – голод и поездки куда-то за Рязань в тамбурах и на крышах вагонов за хлебом и магическим тогда спасительным пшеном. Помню, как помогали сохранять и терпение и веру эти тогда написанные строчки Вяч. Иванова:
Вари пшено, и час тебе довлеет.
Ах, вечности могила глубока…

Мало остается близких от того времени людей. Иные и остались, но они точно перемолоты в каких-то жерновах долгих десятилетий, и нужно дерзновение любви, чтобы прорваться через все занавесы времени к чистой душе этих первоначальных лет.
Вот наверху окошко светится,
Упав на белой мостовой?
Там, где легко мела метелица
Год революции второй.
Кажется, летом или осенью 1917 года помню всенощную в абрамцевском храме. Шестопсалмие читал А. Д. Самарин. Мой отец давно знал его и высоко ценил, и, когда Александра Дмитриевича незадолго до революции назначили обер-прокурором Св. Синода, я помню, что отец пошел на телеграф (мы жили тогда на даче) и послал ему поздравление. Тогда шла глухая борьба против Распутина, против разложения правительства и церковного руководства, и назначение Александра Дмитриевича воспринималось как победа в этой борьбе. Помню неудачную попытку повлиять на лиц, ослепленных страшным мужиком, через оптинского старца Анатолия, привезенного для этого в Петербург. Помню передаваемые из рук в руки, не помещаемые в газетах стенограммы антираспутинских речей в Государственной думе. Помню рассказ о том, что Распутин уже в полном ослеплении от своей власти послал на фронт великому князю Николаю Николаевичу телеграмму с уведомлением, что он выезжает к нему в Ставку, и краткий телеграфный ответ главнокомандующего: “Приезжай, повешу”. Ужас и отвращение перед существованием над Россией Распутина были тогда так сильны, что, я помню, когда совершилось его убийство и я сообщил об этом иносказательно (в печати, конечно, ничего не было) по телефону одной знакомой, то она мне сказала: “Ну, слава Богу! Теперь осталась еще одна”, намекая на императрицу. Здесь интересным фактом является только то, что эта знакомая дама была из очень почтенного общества и верующей семьи.
Явление Распутина страшно не потому, что был такой человек сам по себе, а потому, что он был выразителем и точно итогом многовекового затемнения в русской религиозной душе великой и трудной идеи святости. Русский человек вдруг оказался падким на тот самый соблазн, на который строго указал уже апостол Павел. “И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, – пишет он Римлянам как бы от имени этих соблазненных, – как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим? Праведен суд на таковых”. Из “делать зло, чтобы вышло добро” русский человек сотворил себе дьявольский силлогизм: 1) “Не покаешься – не спасешься”; 2) “Не согрешишь – не покаешься”, а поэтому 3) “Не согрешишь – не спасешься”. Путь к спасению стал утверждаться не против греха, а через грех. Как удобно!
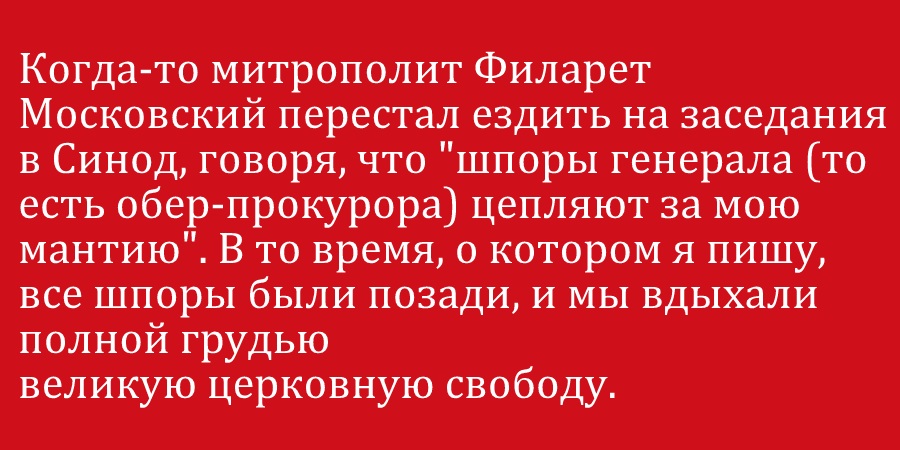
И мы хорошо знаем, что не только темные сибирские мужики, хитро иногда подмигивая собеседнику, могли развивать эту теорию своей практики о спасении через грех, но и вполне интеллигентные люди, ничего не понимая в истинной святости, могли и могут говорить нечто подобное (но, конечно, более деликатно), убежденно презирая, как они говорят, “всякое святошество”. “Праведен суд на таковых”. Может быть, все положительное, что было и есть в послереволюционной религиозной мысли, надо было бы определить как возврат к апостольскому осознанию идеи святости, не имеющей, конечно, ничего общего со “святошеством”, так же как истинное покаяние не имеет ничего общего, то есть несовместимо с грехом. Отец Амвросий Оптинский, передавая учение Отцов, говорил, что “покаяние не оканчивается до гроба и имеет три свойства: очищение помыслов, терпение скорбей и молитву. Три эти вещи одна без другой не совершаются”, то есть без очищения и покаяния.
А. Д. Самарина я еще помню на литургии в Успенском соборе, уже после епархиального съезда, на котором большинство всего в несколько голосов получил второй кандидат на московскую митрополию – Тихон. Когда подходили к кресту, который держал новый митрополит, я видел, как он с улыбкой привета и уважения сделал движение вперед к подходившему Александру Дмитриевичу.
Все современные моей юности Самарины были живыми носителями духа старого славянофильства, одного из наиболее неожиданных и светлых движений русских образованных людей XIX века, которому многим обязан не только Достоевский, но и Герцен. Недаром самый сердечный некролог на смерть Константина Аксакова был написан именно Герценом.
Светлая неожиданность славянофильства в том, что после давнего разложения образованного общества и его дехристианизации в XVIII веке возникло движение яркое, смелое и чистое к возрождению христианства в этом образованном обществе и к преображению всей России на основе христианства. Суть славянофильства, конечно, не “славяне” и совсем даже не “народ” как таковой, а только христианский народ, то есть Церковь. “Славянофилы придавали и народности значение не самой по себе, а только как органу, призванному осуществить в жизни учение Христа” (Д. Самарин, “Поборник вселенской правды”, СПБ, 1890).
“Для России возможна только одна задача: сделаться самым христианским из человеческих обществ” (Хомяков).
“Славянофильство есть не что иное, как высшая христианская проповедь” (Ив. Аксаков).
Возврат к чистому христианству – вот что такое старое славянофильство, имеющее очень мало общего с позднейшим национализмом и реакцией.
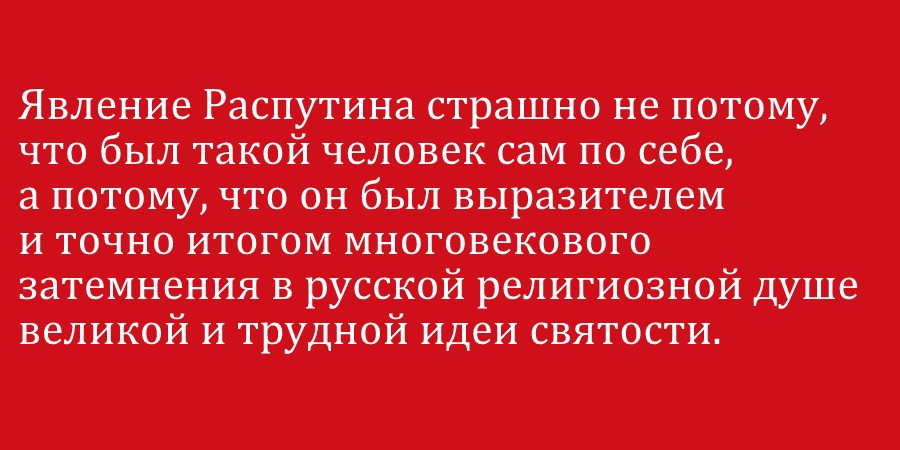
Эта суть славянофильства драгоценна нам теперь тем более, что всю широту понятия истинного христианства они уместили в ясное определение Церкви как богочеловеческого организма, то есть вернули экклезиологию к ее первоисточнику: к учению апостола Павла.
“Введение его (понятия Церкви) в наше религиозное сознание, – пишет Вл. Соловьев, – есть главная и неотъемлемая заслуга славянофильства” (т. 4, стр. 223). “”Церковь не доктрина, не система и не учреждение. Церковь есть живой организм истины и любви“- так формулирует Ю. Ф. Самарин взгляд Хомякова и свой” (там же).
Славянофильство мне вспомнилось вместе с людьми, тогда еще живыми, после того как я вспомнил службу в Успенском соборе. Собор был полон святыни, и он был полон русской историей. Когда в нем шла служба, все это оживало, и святые на фресках, и вся Россия, страдавшая и радостная, умиравшая и снова несущая свою веру – свой Крест.
Было часов шесть утра в середине июля, когда я вышел из дома, стоявшего в старом парке под Москвой, чтобы ехать к себе на Арбат. Цвели липы, и воздух был полон покоем и чистотой Божьего утра. Я уже с вечера знал, что в Москве у меня на квартире засада, что мой арест за выступление против живоцерковников неизбежен, и все же утро было такое, что, когда я увидел у самой стены дома человека в черной гимнастерке, с наганом в руке, я как-то не сразу связал его с тем, чего ждал и к чему был подготовлен. Я почувствовал только вопиющее, невероятное несоответствие этой фигуры всему, что ее окружало. И тут же сердце заныло от боли по уходящей свободе. Из-за угла вышла вторая фигура, тоже с наганом, и меня вполне драматически повели на вокзал.
В коридоре, когда водили на допрос, мелькнула фигура митрополита Агафангела в черной рясе и белом клобуке и очень многое мне напомнила: всего за шесть лет перед этим мы вместе с ним жили летом в Толгском монастыре под Ярославлем, и это ему, по рассказам, варили тогда монахи уху на курином бульоне. Это было последнее лето перед революцией. На великой реке была тишина, с одной стороны была березовая, а с другой – кедровая роща, и если подойти к краю березовой, то открывались луга и там на краю их, верст за пять, – белая церковка, от которой по субботам слабо доносился звон. Я тогда уже знал стихи И. Аксакова:
Приди ты, немощный,
Приди ты, радостный,
Звонят ко всенощной,
К молитве благостной.
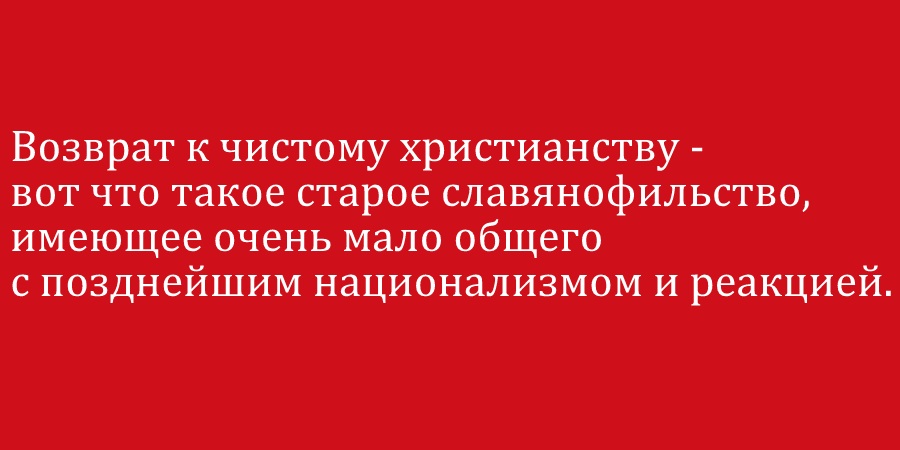
Я тогда читал славянофилов, Григория Сковороду, прп. Серафима “О цели христианской жизни”, и, слушая этот звон, мне думалось, что там, наверное, нет монахов, выходящих покурить во время литургии, что именно там, а не здесь хранима еще Богом Церковь – “ты, риза чистая Христа”, как сказал Тютчев.
Я помню, как люди молились в тюрьме, стоя перед пустой стеной. В тюрьме молиться и трудно, и легко. Трудно потому, что сначала вся камера уставится тебе в спину, и все, что у многих на уме («ханжа» или еще что-нибудь), будет на уме у тебя. Легко потому, что, когда преодолеваешь это «назирание», то правда, что стоишь несколько минут у «врат Царства». В тюрьме «Господь близ есть, при дверех». А насколько это противоречит установившемуся в веках понятию «православный», стало однажды мне ясно.
Был там в камере старый «белый» офицер, воевавший когда-то на бронепоезде у Врангеля, совсем русский. После одной такой молитвы у пустой стены он спросил: «Вы что, сектант?». И стало понятно, что без иконы можно молиться, если ее нет, а вот без смирения, т. е. с осуждением, например, вот этого человека — нельзя.
Я только раз в жизни испытал радости щедрости, а ведь есть и (сейчас) люди, которые несут щедрое сердце всю свою жизнь.
Это было в Бутырской тюрьме осенью 1922 года, и это было как светлый ветер, выметавший сор души. Я готовился к этапу и раздавал, что имел, и, чем больше раздавал, тем глубже дышал воздухом свободы, в которой мы призваны быть всегда. И это время тюремного дерзания так и осталось сладчайшим временем жизни. Почему я тогда не умер?
Та простота и вера, к которой зовет апостол, конечно, не есть упрощение. Это только введение всех своих мыслей и чувств в евангельское ученичество Христу. И только это может провести людей в лабиринте и в туманной современности.
Уткнувшись в стену, можно было без конца читать Евангелие. Мне был тогда только двадцать один год, но мне, я помню, было до очевидности ясно, что происшедшая катастрофа – это Божие возмездие. Я понимал, что когда верующий человек отказывается от подвига своей веры, от какого-то узкого пути и страдания внутреннего, то Бог – если Он благоволит еще его спасать – посылает ему страдание явное (болезни, лишения, скорби), чтоб хоть этим путем он принес “плод жизни вечной”. “Жена когда рождает, терпит скорбь” – это закон христианского пути. Я понимал, что к прежней жизни я просто не смею вернуться, выйдя отсюда, и мне казалось, что мне легко это будет сделать. Дверь камеры была заперта, но во мне внутри ощутимо открылась тогда какая-то дверь, и я выходил через нее на большую и радостную дорогу.
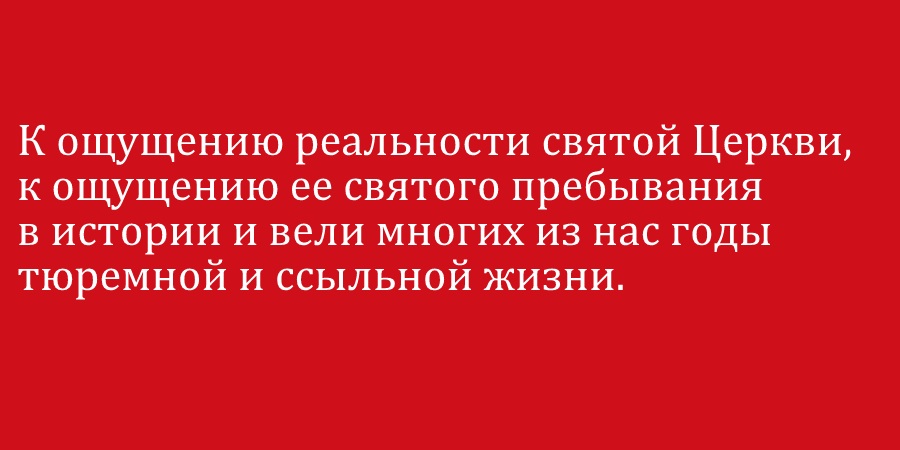
Помню, как особенно часто я читал там 6-ю главу от Марка: “И призва обанадесять и начат их посылать два два (по два)… и заповеда им да ничесоже возмут на путь токмо жезл един, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе“. Через ткань этих слов все яснее чувствовалось, что при любви к Христу нельзя работать двум господам, что душа должна наконец сделать выбор. И таким простым тогда казался мне этот выбор! Душа так легко, так бездумно шла тогда по дорогам и проселкам галилейским, ища даже не учения, а только зримый образ Учителя и Бога. Как сказал Пастернак о Магдалине:
Омываю миром…
Я стопы пречистые Твои.
В этом я жил тогда. Это был кризис и выздоровление после долгой и тяжкой болезни молодости.
В нашей камере, кроме длинного общего стола, был еще маленький столик в простенке между окнами, служивший престолом для совершения литургии. В камере был антиминс и сосуды, конечно жестяные, было одно холщовое священническое облачение, несколько маленьких икон, свечи и даже настоящее кадило и ладан. Забота о кадиле лежала на мне, и вот, пристроившись к коридорным дежурным по раздаче утренней или вечерней еды, я спускаюсь с ними и с кадилом в тюремную кухню, и кто-нибудь из поваров с особым каждый раз удовольствием на лице вытаскивает мне из громадной печи самые отменные угли. В камере было при мне временами до пяти архиереев и по нескольку священников. Они служили по очереди, не каждый день, но довольно часто. Иногда на служение пускались гости и из других камер. Пели почти все – это, значит, человек двадцать, – и каменные своды старой тюрьмы далеко передавали божественные песни. Богослужение – это единство устремления людей к Богу. Если на богослужении нет совсем людей, устремленных к Богу, то богослужения и не будет, а будет только стертая медь обряда. “Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая… и нет мне в том никакой пользы“. У нас в камере было два человека, явно устремленных к Богу: о. Валентин Свенцицкий и о. Василий Перибаскин. Первый еще недавно перед этим был в гуще интеллигенции, писал в газетах и журналах вместе с Мережковским и Гиппиус, а теперь носил черный подрясник и, хоть и женатый священник, монашеские четки. Это был человек и большой и трудный. В нем чувствовалась тогда мощь духовного борца, находящегося в смертельной схватке невидимой брани и еще не достигшего покоя. Мира души как трофея победы в нем еще не чувствовалось, но самая борьба его, настолько реальная, что как бы уже видимая, была сама по себе учительна и заразительна для других. Он был именно устремлен ко Христу: наверно, и он увидел его где-то, может быть, тоже на пути, и эта устремленность устремляла других.
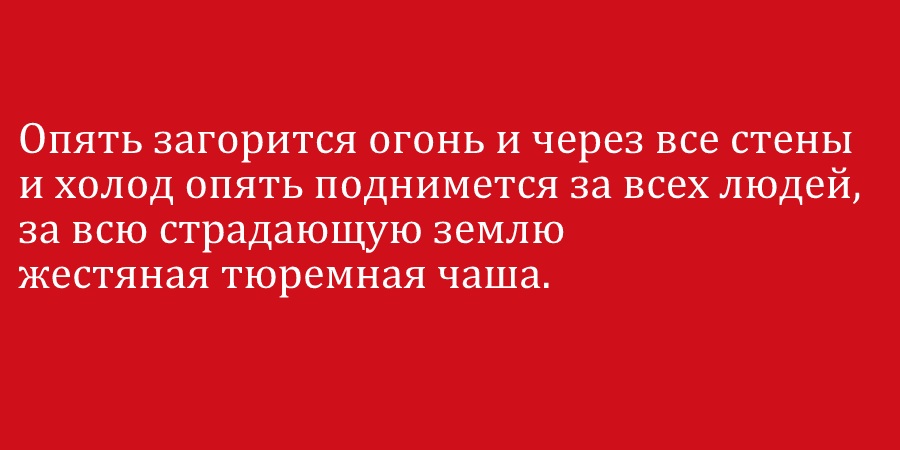
О. Василий Перибаскин был как бы простейший русский, да еще вятский поп, конечно, обремененный семьей, конечно, рыжеватый, высокий, с красноватым носом, в сером старом подряснике, из-под которого, попозже к зиме, выглядывали несуразно большие валенки. О. Валентин все больше молчал, перебирая четки, а о. Василий часто говорил с людьми. Между собой они были в явной дружбе. Говорил о. Василий словами простыми, иногда даже словами совсем не литературными, грубыми, но всегда говорил то, что было надо сказать собеседнику, точно вырубая заросли чужой души. Помню разговор его с одним ученым протоиереем, державшимся от всех нас в стороне. Это был еще молодой юрист, профессор канонического права в одном из университетов. Принявши почему-то священство (в начале революции), он к этому времени уже снял рясу и работал как юрист в каком-то учреждении. Помню, что о. Василий долго ему что-то рассказывал вполголоса, сидя на его койке, про какого-то священника в деревне, про крестный ход летом на полях, про какое-то торжество молившихся под голубым небом людей. И я ясно помню лицо этого юриста в слезах. О. Василий имел дар помощи людям и он делал ту помощь в радости и в непрестанной молитве. Как говорил прп. Макарий Великий, “молитва основана на любви, а любовь на радости“. Это и есть христианство. Но где теперь эти люди?
“Наша епархия теперь вот! – сказал как-то митрополит Кирилл и широким жестом показал на сидевших в комнате двух-трех близких ему людей. – Теперь мы совсем по-иному должны сознавать свои задачи. Довольно мы ездили в каретах и ничего не знали. – И тут же, улыбаясь, рассказывал: – Когда меня назначили в Петербург викарием к Антонию, один человек говорит мне: “Вас, владыко, сюда назначили по росту, как в гвардию”.
Помню, как в Прощеное воскресенье он, старый, грузный, опускается на колени, чтобы поклониться до земли своей келейнице Евдокии, несшей всю тяготу его скитальческой жизни. Где теперь эти люди? “Не жизни жаль с томительным дыханьем. Что жизнь и смерть!” Но все страшнее видеть, как умирает церковная эпоха – “Сардийская церковь”, – как все пустыннее становится жизнь в ней, как все труднее делаются поиски десяти праведников.
Там, мне сказали, доходит один священник. Я протянул ему, сидевшему на нарах, горсточку мелких кусочков сахара. Он взял, не глядя на меня, и вдруг взор его просиял, он засмеялся и стал подбрасывать в воздух кусочки, ловить их и опять подбрасывать. Он – весь, маленький тамбовский попик, – веселился в своем безумном детстве. Я ушел. Легче смотреть, когда смерть идет через голодный понос, оставляя в покое разум.
Помню большую фигуру иеромонаха Спиридона, седобородого, ходившего с молитвословом в руках между черными соснами. Он, не смея стоять у могил, все же совершал про себя отпевание усопших. Этот отец Спиридон так хорошо рассказывал в бараке про свой Валаам и еще, я слышал, учил заканчивать Иисусову молитву так: “Богородицею помилуй нас!” И ведь это действительно так и в этом лесу, и во всем этом страшном мире: “Богородицею помилуй нас!” Только так.
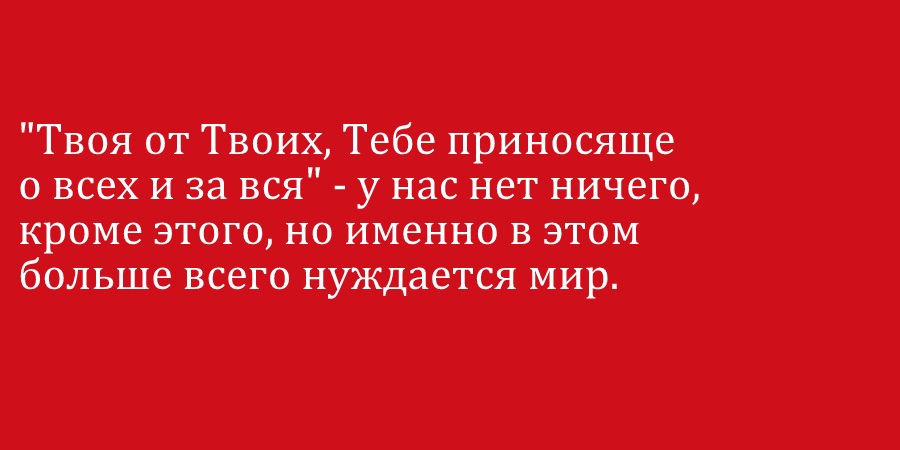
Еще один священник воронежский – не знаю его имени, – горбоносый, почти седой, с красивыми черными глазами, умирал у нас в бараке. Он дошел за два дня, совершенно молча, никого не тревожа, ни с кем почти не разговаривая. Все глядел на потолок. Почему, спрашиваю я себя теперь, я к нему не подошел?
Есть вера-обычай и есть вера-ощущение. Нам всегда удобнее пребывать в первой, каков бы ни был в нас этот обычай – бытовой или рациональный, как у сектантов. Обычай ни к чему духовно трудному не обязывает. Вера-ощущение требует подвига жизни: труда любви и смирения. И только она дает ощущение Церкви, которого в нас так ужасно мало, о котором мы часто даже и не слышали. “Какое там еще ощущение Церкви!” Может быть, это даже какое-то новое раскольничество?
Вот только к этому ощущению реальности святой Церкви, к ощущению ее святого пребывания в истории и вели многих из нас годы тюремной и ссыльной жизни.
Помню одно ноябрьское утро в камере 1922 года. Ноябрьское утро бывает темнее декабрьского, если снег еще не покрывает землю. Это самое одинокое время года, время тоски и природы и сердца. И в такое утро особенно трудно вставать. Откроешь глаза – и вот все та же пыльная лампочка, горевшая, по правилам, всю долгую ночь. В коридоре еще тихо, только где-то внизу хлопнула дверь. Но я вижу, что о. Валентин и о. Василий уже встают, и вдруг стену внутреннего холода пробивает, как луч, теплая, победоносная мысль: да ведь сегодня будут служить литургию! Сегодня там, на маленьком столике у окна, опять загорится огонь и через все стены и холод опять поднимется за всех людей, за всю страдающую землю жестяная тюремная чаша.
“Твоя от Твоих, Тебе приносяще о всех и за вся” – у нас нет ничего, кроме этого, но именно в этом больше всего нуждается мир.
Вышеприведенный текст — извлечения из книг Фуделя «У стен Церкви» и «Воспоминания».




