Наиболее «философская», если так можно выразиться, форма философии — диалог, встреча идей, мышление как живая борьба: Сократ, Платон. Давайте сегодня вспомним русские образцы философских диалогов.


Григорий Сковорода — «украинский Сократ», философ-казак, христиански мыслитель, имеющий «специфическую прелесть примитива, чары соединения гениальности с наивной и целомудренной скованностью культурных форм», как писал Эрн. Один из главных жанров Сковороды — как раз диалог: «разговор о том: знай себя», «разговор об истинном человеке или о воскресении», «беседа о том, что блаженным быть легко», «разговор пяти путников об истинном счастии в жизни (разговор дружеский о душевном мире)», «пря беса со Варсавою», «диалог. Имя ему — потоп змиин (беседуют Душа и Нетленный Дух)» и даже диалог архангела Михаила и сатаны: «брань архистратига Михаила со Сатаною о сем: легко быть благим» и пр. и пр. В общем крайне обаятельная, «патриархальная» (если можно так выразиться) проза о поиске блага, мудрости, Бога.
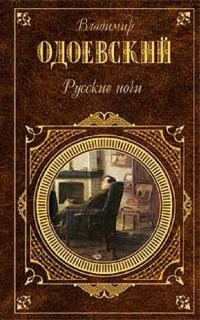
«Русские ночи» Одоевского, нетривиального русского писателя и мыслителя — сборник философских эссе и рассказов, выстроенный как огромный диалог; чудесная книга, жаль ее мало читают. Группа молодых людей бросила себя на дело познания человека и мира, но, разочаровавшись в рассудочных теориях века, стала искать смысл в конкретной жизни людей, особенно людей выдающихся или «интересных», таких, что видели бездны бытия. Книга «Русские ночи» состоит из историй этих людей (эти истории суть огромные реплики в романе-диалоге), перемежающихся беседами молодых философов. Книга, надо сказать, удивительная — это и просто интересные, часто фантастические истории, проблематика западничества и славянофильства, предвосхищение многих идей русского религиозного Ренессанса и русской литературы (читатель увидит, как много общего и прямо совпадающего у Одоевского с Чеховым, Толстым и Достоевским), критика утопических, бездушных проектов современности, воплощение экзистенциального голода человека. Помимо этих предвосхищений, «Русские ночи» — прекрасный образец романтизма и просто хорошая литература.
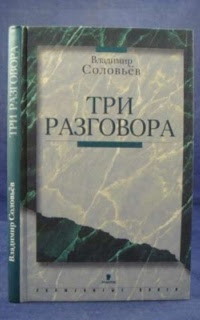
«Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории со включением краткой повести об Антихристе и с приложениями» — итоговое произведение Владимира Соловьева, главного русского философа XIX в., великого христианского мыслителя. Здесь сталкиваются позиции толстовства (христианства, сведенного к морализму); «патриархальная», «традиционная» позиция; западническая, либеральная, прогрессистская позиция и наконец позиция самого Соловьева — позиция настоящего христианства. Сталкиваются они на вполне определенных темах: война, история, общественные вопросы, смысл христианства.
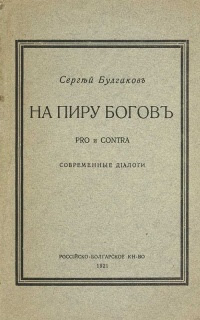
«На пиру богов. Pro и contra. Современные диалоги» — текст, написанный по свежим впечатлениям от Русской Революции, значимого философа и богослова первой пол. XX в. Сергея Булгакова. Подражание и как бы продолжение соловьевских «Разговоров». Генерал, дипломат, богослов, писатель и другие «бывшие» рассуждают о России, революции, мировой войне, интеллигенции, культуре, Церкви, христианстве, политике, самодержавии и пр. Диалоги очень ироничные: первую половину их составляют раскаяние и насмешки о том, какие глупости говорили герои до Войны и Революции, и теперь-де они подобных глупостей говорить не будут; но, как мы теперь знаем, их рассуждения о России после Революции оказались тоже глупостями: поучительное чтение в этом смысле.
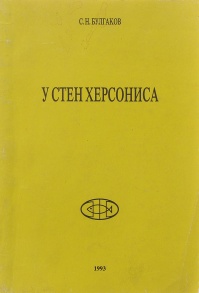
В конце жизни великий православный мыслитель священник Сергий Булгаков писал: «я должен поведать о своем искушении <…> которое я пережил в страдные дни своего Крымского сидения под большевиками во время самого первого и разрушительного гонения на Церковь в России. Перед лицом страшного разрыва церковной организации под ударами этого гонения, так же как и внутреннего распада, выразившегося в возникновении „Живой Церкви”, я испытал чувство страшной ее беззащитности и дезорганизованности, неготовности к борьбе <.. .>. Перед лицом этого исторического экзамена для русского Православия <.. > я обратил свои упования к Риму. <.. > Под совокупным впечатлением церковной действительности, как и моего собственного изучения, я молча, никому не ведомо, внутренно стал все более определяться к католичеству (этот уклон моей мысли выразился в ненапечатанных, конечно, моих диалогах «У стен Херсониса»)».
Именно, эти диалоги Булгакова «У стен Херсониса» здесь и размещены. Это как бы вторая часть диалогов «На пиру богов», московских диалогов апреля-мая 1918 года. Те же участник продолжают свои диалоги в 1922 г. в Херсонисе. Крушение Российской империи — отправная точка диалогов; религиозные судьбы России («Третьего Рима») — их главная тема, выводящая на проблему Первого Рима — католичества.

«Разговор о логике с социал-демократом» — диалог Владимира Эрна, талантливого мыслителя Серебряного века, к сожалению, рано погибшего. Социалисты пламенно борются за справедливость, обрекая себя на страдания и гонения, часто жертвуя своей жизнью. Пламенная вера в Справедливость, однако, никак не отображается в идеологии марксистов, которая, как правило, остается серым и скучным материализмом и атеизмом, — то есть чем-то таким, что ну никак не дает поводов не то что к пламенной — вообще к какой-либо вере. Короче говоря, диалог посвящен вопиющему противоречию этического пафоса марксистов с их идеологией, о бессознательной религиозности социалистов.
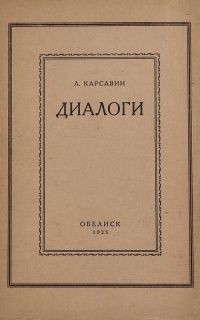
«Диалоги» — небольшая книжка философа Льва Карсавина, изданная в 1923 году. Включает в себя два диалога: «Об основных свойствах русского народа и царственном единстве добродетелей» и «О прогрессе и социализме». Оба посвящены философии всеединства: первый диалог раскрывает единство дободетелей, несущность зла и кончается утверждением апокатастасиса. Второй диалог полемизирует с идеями материализма, социализма и прогресса, считая идею прогресса умалением идеи всеединства, как бы материалистическим её ущерблением, откуда выводится идея «нравственной политики». Интересно начало «Диалогов»:
«Профессор. Прочел я Вашу «Салигию» [предыдущая книга Карсавина] и хотел бы поделиться с Вами некоторыми недоумениями. Я нахожу…
Автор Салигии. Только, пожалуйста, без похвал. Я их очень люблю, но несколько неловко их выслушивать и занимать своею персоною других. Согласитесь, что это не соответствует ни христианскому смирению, ни нравам моих милых схоластиков. К тому же кто знает? может быть, я напечатаю наш завязывающийся сейчас диалог, и тогда самый благожелательный читатель сочтет Ваши похвалы за мое самохвальство.
Профессор. Не беспокойтесь. Такой опасности Вашему предполагаемому читателю не грозит. Повторяю, мне хочется разъяснить некоторые недоумения, и не по существу (по существу, Вы знаете, я неисправимый скептик), а… ну, скажем: по форме. И прежде всего позвольте спросить Вас: чем объясняется такая странная форма «рассужденьица»? Зачем все эти обращения к читателю, все это, простите меня, ненужное суесловие?
Автор.
«Только в одежде шута–арлекина Песни такие умею слагать».
Профессор. Нет, кроме шуток. Зачем, если Вы дорожите тем, о чем пишете…
Автор. Дорожу.
Профессор. …постоянная полуулыбочка? Что это: боязнь высказаться прямо и смело и желание прикрыть себе путь отступления с помощью статических окопов? Я хорошо понимаю, что Вам нужна форма для откровенной и интимной беседы с читателем. Но почему именно такая форма, невольно (а, может быть, и вольно?) поселяющая в читателе подозрение, что автор издевается над своей темой? Ведь это коробит даже скептика.
Автор. Дорогой мой профессор, не мне учить Вас «божественной иронии» романтиков. Но буду смелее и сразу же заявлю Вам, что я человек русский. Обращали ли Вы когда–нибудь Ваше просвещенное внимание на особенности русского красноречия? Не знаю, но мне кажется, что порядочный русский человек не может не краснея слушать риторику присяжных витий, по крайней мере витий отечественного происхождения. Нам кажутся фальшивыми и безвкусными такие выражения, как «краса русской революции», «великий писатель земли русской», даже такие, как «приказный строй» вместо «бюрократического режима», хотя и «бюрократический режим» тоже прелестное словосочетание. Риторика какого–нибудь Жореса или Бебеля, (не говоря уже о «dii maiores», как Дантон) для нас приемлема, может быть даже волнует и увлекает нас. Риторика российского адвоката, парламентария или социалиста ввергает в стыд и смущение. Вспомните лучших русских стилистов, хотя бы Ключевского. Разве они увлекаются пафосом? А если и впадают они в пафос, то является ли этот пафос чистым? «Русское государство родилось на Куликовом поле, а не в скопидомном сундуке Ивана Калиты»… Француз никогда бы не вспомнил о сундуке (хотя и очень заинтересован в долгах российского государства) по поводу героической битвы, но усилил бы упоминание о ней соответствующей фиоритурой, а, может быть, и жестом. Конечно, и у Ключевского был пафос при мысли о Куликовом поле (кстати, не кажется ли Вам глубоко символичным, что одно из величайших событий нашей истории совершилось на поле, где живут кулики?), но ему стало совестно своего пафоса. Вот он и ввернул «сундук», оберегая тем свою стыдливость и усиливая яркость образа.
Профессор. А не думаете ли Вы, что здесь исходный момент не Куликово поле, а Куликово поле вместе с сундуком? Ведь Вы же сами говорите, что это «усиливает» образ.
Автор. Это безразлично. Если даже Вы правы, характерно, что тональности обеих частей сравнения существенно различны. Ведь героическая битва сопоставляется не с «темными временами незаметного накопления сил», не с «медленным созреванием национальной идеи» или «узким кругозором безличных властителе й», ас самым прозаическим сундуком. Дионисий Ареопагит утверждает, что лучше высказывать о Боге имена, явно Его достоинство умаляющие, чем имена, видимо соответствующие Его величию. Так лучше назвать Бога червем, камнем, чем благом, красою и т. д. Действительно, называя Бога красою, мы вносим в идею Божества что–то наше, человеческое и условное, тогда как…
Профессор. Милый мой, Вы опять за свое!»
«О сомнении, науке и вере (три беседы)» (1925) — небольшая работа Льва Карсавина, выдающегося христианского мыслителя первой пол. XX в. (погибшего в советском лагере), написанная в жанре диалога. В советской тюрьме три арестанта полемизируют о вере и атеизме: комсомолец, учитель и бывший помещик. Начинаются беседы с тогдашних актуальных тем: марксистский материализм, «религия — опиум для народа» — в общем, с социальных проблем; затем беседы возлетают к метафизическим и теологическим высотам.
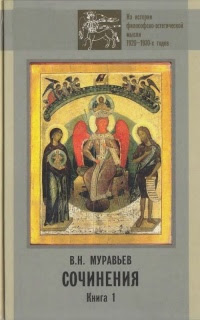
«Философская мистерия» «София и Китоврас» Валериана Муравьева (российского и советского высокопоставленного дипломата, умершего в советском лагере) — роман в диалогах, где «мистериальные» мотивы (София, Премудрость Божия, Китоврас — персонаж древнерусской апокрифической прозы и т.д.) переплетены с остро актуальными на тот момент темами. В канун Первой мировой и Русской Революции, а также после Революции уже в Советской России представители разных идейных течений спорят о идеальном устроении людей и мира в целом: анархо-индивидуалист, коммунист, либерал-западник, адепт спиритуалистического христианства, адепт теократического христианства и т. д. В итоге все эти позиции оказываются ошибочными, а подлинное (апокалиптическое, активное) христианство выступает как истина, синтезирующая в себе то, что было истинным в каждой из них.
Цитата:
«София. Социализм есть исчадие материализма и позитивизма и мыслит в их терминах.
Китоврас. Да, социализм рожден также от этих родителей. Если в народной душе он психологически близок чаяниям христианского коммунизма, для ученых он носит одежду эпохи новой культуры.
София. Но ведь это та эпоха, которую мы назвали эпохою культурного либерализма или индивидуализма. Не является ли противоречием, что здесь возникает социализм?
Китоврас. Он рождается в ней именно как протест против чрезмерных преувеличений либерализма и индивидуализма. Постольку он тесно связан с возникшим после Великой Французской Революции разочарованием в возможности осуществить индивидуальную свободу, свободу
без изменения экономической обстановки».

«Переписка из двух углов» — шедевр русской мысли, диалоги двух выдающихся представителей Серебряного века, Вячеслава Иванова и Михаила Гершензона: «письма эти, числом двенадцать, писаны летом 1920 г., когда оба друга жили вдвоем в одной комнате, в здравнице «для работников науки и литературы» в Москве».
Переписывались они о вере, неверии, отношениях культуры и религии, о кризисе современной культуры. Культура — мертвое бремя или культура — сокровищница живой веры? — примерно так выглядит занимавший их вопрос.
В собрание художественного наследия великого философа XX века Алексея Лосева входят, помимо прочего, пять диалогов: чудесная, интереснейшая проза, философски крайне значимая, но и литературно крайне хорошо написанная.

«Трио Чайковского». В канун Первой мировой любители-музыканты собираются помузицировать; в перерывах они говорят о музыке (а также заводят шашни и пр.: три диалога из пяти совмещают темы музыки/религии/секса). Оказывается, что музыка — характерная черта модерна, идет в одном ряду с атеизмом, материализмом, капитализмом и т. д. Христианство есть жизнь в Боге, в подлинной реальности; поэтому в христианстве нет музыки, а есть богослужебное пение как элемент не какого-то изображения, а реального бытия богослужения, где происходит обожение человека и мира. Музыка — совсем другое. Музыка есть не жизнь, а изображение, отрыв от реальности. Но изображение чего? — музыка есть изображение Бога; не Сам Бог, а именно Его изображение: как реализм в литературе есть изображение здешней действительности, так музыка есть реализм Божества. Музыка, таким образом, — великая музыка Баха, Бетховена, Моцарта и т. д. — есть одно из ярчайших проявлений отрыва новоевропейского человечества от Бога; отрыв этот ведет к катастрофе; последняя сцена диалога — начало Первой мировой.
«Метеор». Тематически этот диалог почти совпадает с «Трио Чайковского». Гениальная исполнительница приезжает в Москву; в гостиничный номер к ней приходит поговорить философ музыки. Исполнительница оказывается несчастной: музыка не есть прекрасная жизнь, а есть лишь прекрасное изображение жизни; когда-то у нее был несчастный брак; потом она поступает в монастырь; но жизнь вывела в музыку; они влюбляются и проводят ночь вместе, все это время рассуждая о музыке и в целом приходят к тем же выводам, к каким приходят герои «Трио Чайковского». Деталь: как там шашни ничем не кончились, так и здесь. Секс и музыка объединяются Лосевым по признаку прекрасной, но обманчивой чувственности; и секс и музыка уходят корнями в демонизм — тот самый демонизм, что проявляет себя в модерне как атеизм, материализм и пр. Много места в диалоге уделяется темам аскетизма, монашества, секса.

«Встреча». Три строителя (заключенных) Беломорканала обсуждают музыку — её судьбы при социализме (к слову, все наши диалоги написаны Лосевым после освобождения из лагеря, с Беломорканала). Потом главный герой, философ музыки, случайно встречается с когда-то известной исполнительницей, а ныне — тоже строительнецей Канала. С ней герой обсуждает ту же музыку, а также религию, любовь, коммунизм и прочее (вы видите схожесть и тематики и самих сюжетов в этих диалогах; их можно — пожалуй, нужно — читать как единое произведение).
Текст прекрасный, причудливый, но нельзя с ним работать «напрямую»: это явно ироничный, карнавально-инфернальный текст. Герои все — как бы перекованные «гнилые интеллигенты», Канал из них сделал якобы ярых большевиков. Но разговоры их — с помощью «марксистской диалектики» — сводятся к тому, что при коммунизме не нужны ни музыка, ни демократия, ни личность, ни любовь. То есть текст иронически яро антисоветский. Тем более чем все кончается? — герой и героиня, устав играть роль большевиков и энтузиастов строительства Канала, посылают коммунизм к черту и занимаются «мелкобуржузной любовью», за чем их застают чекисты; герои волею «органов» расстаются.
То есть текст антисоветский, антимакрсистский? — не так просто. Лосев и до ареста как почитатель феодализма был ненавистником капитализма; как диалектик (не в марксистском смысле, даже не в гегелевском, а в русле позднеантичных авторов) всегда считал, что надо мыслить всецело, то есть, в частности, учитывать категорию социального, учитывать историческое становление; и поэтому его переход к марксизму — не разрыв с первой половиной творчества, а логичное развитие. Несмотря на всю иронию «Встречи», ее идеи можно встретить в творчестве Лосева как и до ареста, так и после освобождения. Поэтому, не забывая ироничности «Встречи», нельзя ее читать просто как издевательство над марксизмом. Здесь скорее мы видим работу мысли философа в горниле исторического трагизма: тот, кто призывал не забывать о категории социального в философии, социальной бурей был выброшен на Беломорканал. Короче, вот идеи «Встречи», которые можно встретить и в других текстах Лосева:
1. Дохристианская эпоха — личности нет, есть тотальность Космоса; рабовладение, язычество.
2. Христианство провозглашает идею Неотмирной Абсолютной Личности; освобождение от Космоса, торжество принципа личности, но только на словах (в догматике, в культе); феодализм.
3. Капитализм есть переход объективной истины христианства в субъективность (и одновременно из идеальности в материальность); вместо Абсолютной Личности — абсолютизация эмпирической личности; истина более не объективна как в христианстве, теперь — атеизм, материализм, субъективизм, антропоцентризм; в бытии истины и ценности нет, они в глубине человека; но тем самым, что было в феодализме «на словах», теперь — «на деле», что раньше провозглашалось (торжество принципа личности), теперь реализуется (конкретные человеческие личности освобождаются). Христианство — тезис, капитализм — антитезис.
4. А синтез? — социализм. Если в тезисе христианства была объективная истина личности (Бог), то в антитезисе капитализма она субъективируется, приходя в реальность, но теряя объективность (бессмысленный космос буржуазии — материализм при господстве человека — романтизм, гуманизм, демократия, наука). Социализм же — как антитезис капитализма, то есть своего рода как феодализм на новом витке, новый феодализм, сохранивший достижения капитализма — снова утвердит объективность, но не «на словах» как в феодализме, а «на деле»: в объективности производства, в объективности коллектива (то есть объективность будет не провозглашаться, а будет реализована). В феодализме христианство провозглашается, в капитализме — реализуется, в социализме обретает завершенность (именно так Лосев не говорит, но «Встреча» и ряд других текстов позволяет его так понять).
5. При чем здесь музыка? — музыка возможна только при капитализме (Бах, Бетховен, Моцарт и пр.). Капитализм — переход идеи Абсолютной Личности к идеи абсолютизации человеческой личности; музыка — это переживание Божества внутри человеческого субъекта; в феодализме субъект склоняется перед Абсолютом, «музыка» там только — элемент культа, поклонения. При капитализме — субъект сам абсолютизируется, изнутри себя переживает Божество, и это переживание — музыка. Но если в феодализме Абсолют объективен, то при капитализме — он субъективен. Музыка — фикция, иллюзия Божества, на самом деле «Бога нет», человек один в бессмысленной вселенной, музыкальные экстазы только внутри его души, никак не связаны с объективным бытием (ибо объективное бытие при капитализме — бессмысленный холодный космос, не Абсолют, не Бог Живой). В силу всего этого при социализме музыки (в понимании а-ля «Бетховен») тоже не будет, ибо субъективизм будет преодолен. В такой же логике Лосев подвергает анализу все реалии капиталистической культуры, противопоствляя ее субъективизму — старый объективизм феодализма и новый объективизм социализма.
6. Плоха та религия, которая не сильна в социальном измерении; идея должна задействовать все категории, включая категорию социального; религия должна побеждать в реальности — то есть в обществе. Значит, Православие — пустышка? Нет, говорит Лосев: именно тысячелетняя история Православия в России позволила победить Октябрю и начаться строительству социализма: ибо старый объективизм Православия совпадает с новым объективизмом большевизма. Так то ли горько иронизируя, то ли серьезно пишет строитель Беломорканала и православный монах Алексей Лосев.
«Из разговоров на Беломорстрое». Несколько строителей Беломорканала обсуждают проблему техники. Техника — одна из центральных проблем современной философии. При этом через технику собеседники обсуждают современность (капитализм, социализм), советскую власть, марксизм. Здесь дается полный круг возможных взглядов на технику от отрицательных до положительных, от религиозных до атеистических. В конце диалога в несколько карнавальном духе единственный среди собравшихся большевик всех примиряет. Надо вообще учитывать, что диалог написан в ироническом духе. «Из разговоров на Беломорстрое» — важнейшее свидетельство отношения великого христианского мыслителя к марксизму и к истории вообще. Позиция Лосева — диалектическая и религиозная. История — часть бытия, тем самым ее (а следовательно, и СССР) бессмысленно отрицать, история есть кипение бытия, кипение истины. Так или иначе текст — интереснейший. Вот, скажем, иронический анализ строителя Канала Алексея Лосева:
«Вы продолжаете думать по старым либерально-интеллигентским методам, что большевик — это самый примитивный, самый схематический и элементарный человек. Большевик — это самый сложный человек современности.
Если вы хотите найти сейчас в мире место, где еще не заглох идеализм, где существует подлинная духовная жизнь с ее творчеством, с ее падениями и с ее взлетами, то это — СССР. Культурный мир погряз в мещанстве, в материальных интересах, в заботах об удобствах жизни. Ни одна страна не переживает тех конфликтов и тех свершений, которые творятся у нас. Америка слишком материалистична, чтобы допустить у себя роскошь коммунизма, западный человек слишком любит теплое, покойное местечко, чтобы решиться поднять на своих хилых плечах всю тяжесть нового переустройства жизни. Под влиянием пережитого и переживаемого каждый мещанин у нас мудрее Канта и Гегеля; и никакому западному профессору философии и не снилась та глубина проблем, которая ежедневно, ежеминутно открыта перед взором нашего последнего простолюдина. Нужно быть слишком искренним романтиком, слишком самоотверженным человеком, чтобы жить у нас в унисон с эпохой. У нас разрушены наши старые гнезда, и бытовые, и идеологические; каждый из нас плывет над бушующей бездной истории, могущий каждую секунду погибнуть и каждую секунду быть вознесенным к самому кормилу власти. Это дает нам знание, которое неведомо никаким мещанам мира, какие бы кафедры они не занимали на Западе. Мы перенесли голод, холод, кровавые гражданские войны и несем еще и теперь тяготу повседневной борьбы за торжество нашей идеи. Только мы — не мещане, и только у нас — настоящая духовная жизнь, ибо духовная жизнь есть не рассуждение, а жертва, жертва всем ради идеи, СССР — столп и утверждение мирового идеализма».

Тема жертвы и коммунизма подхватывается в «Жизни», диалоге двух друзей, написанный во время Великой Отечественной:
1. Жизнь есть чудовищный, жестокий, бессмысленный поток случайных фактов. Мы рождаемся случайно, случайно страдаем, случайно приносим страдания, случайно умираем. Жизнь есть жестокая бессмыслица. Это — мирочувствие атомизированного субъекта в капитализме, потерявшего всякие связи с социумом, миром, Богом. Отчуждение смысла. Индивид, лишенный Бога, космоса и общины, чувствует себя пылинкой на злых, чужих ему ветрах. На этом этапе в «Жизни» много говорится о технике.
2. Если жизнь есть жестокая бессмыслица, то, взятая целокупно, она есть Судьба, Рок. Весь поток событий, взятый во всем своем объеме, есть самопорождающая-самопожирающая Судьба. Каждый человек, как и каждая вещь вообще, есть лишь случайная частица в бесконечном и бессмысленном потоке рождений-смертей. Это единственная возможная при капитализме метафизика.
3. Однако в самом интимном, в самом индивидуальном, в самом неизбывном и внутреннем своем желании — в желании половом, в сексуальности, в желании продлить Род — мы узнаем свое самое родное: Родину. Самое общее и самое безличное — Род — есть вместе с тем самое личное, самое частное. В сфере пола снимается противопоставление Судьбы и частного существа, ибо самое интимное частного существа («я хочу») есть одновременно самое общее («хочу того, чего хочет Род»). Если моя свобода, моя воля, мое желание совпадает с волей Рода, то не Судьба правит мной, а я сам и есть Род, Общее. Бытие волит себя в моей воле, моя воля есть воля бытия. Бытие хотело быть в моем рождении, оно хочет быть в моей жизни и в моих желаниях (на этом этапе Лосев — почти ницшеанец).
4. Жестокая Судьба оборачивается любимой Родиной, самым родным. Все жестокости жизни не есть бессмысленные жестокости, но есть Жертва во имя Родины. То, что казалось жестокой Судьбой, оборачивается родной нашей Матерью (которая требует Жертвы). На этом этапе кажется, что Лосев обожествил жизненный поток и все связанные с ним бессмыслицы и жестокости, кажется, что Лосев строит философию фашизма — философию Родины и Жертвы, крови и почвы.
5. Но оказывается, что наша Родина, Родина всех людей и всех существ вообще есть бесклассовое общество. Самое родное, самое «наше», самое «кровное», сама наша почва, причина и цель бытия каждого из нас и всех совокупно есть жизнь любви, жизнь осмысленная и радостная (вот этот идеал «восполняла» религия, этой Родины сыновьями были все гении, это Родина Абсолютных Истины, Красоты и Блага). Во имя такой Родины движется вся история, приносятся все жертвы, во имя нее мы живем — когда любим кого-то, рожаем детей и пр. Мы преодолеваем все страдания жизни во имя бесклассового общества, которое есть самая интимная наша жизнь, самое сокровенное наше желание. Человеку не «естественно» угнетать и убивать, ему «естественно», ему хочется — каждому хочется — любить, жить в радости. Поэтому коммунизм — самое родное, ибо каждый хочет его, хотя вряд ли так это называет: любить естественно, угнетать неестественно:
«Моя Родина есть бесклассовое общество. Достаточно вам этого? Бесклассовое общество действительно не есть для вас нечто родное. Вы родились в век жесточайшей эксплуатации человека человеком, в век звериной борьбы за существование. Вы привыкли к этому с детства. Для вас это нормально и естественно. И вы не хотите знать, что возможны еще и иные отношения между людьми. Вы не хотите знать, что человеку гораздо естественнее не убивать, не мучить, не насильничать, что это-то и есть его самое естественное состояние, что это-то и есть его первозданная природа, что это-то и есть его вожделенная Родина, его мать, его, наконец, бессознательное требование при всяком недобром событии в жизни».
То, что мы называем зло злом, свидетельствует о том, что мы понимаем «неестественность» зла, оно не «родное» нам, оно приносит нам страдание и мучит нас, оно нам чужое. Эгоистичнейшее из всех желаний — желание сексуальное — есть желание Общего (субъект эгоистично желает того, чего желает Род). В самом эгоистичном и глубинном находим коммунизм.
4-й и 5-й этапы характеризуют важнейшую развилку, два пути от экзистенциальной мерзости запустения капитализма. 4-й есть фундаментализм, возвращение к крови и почве (нацизм ли, исламизм ли, христианский фундаментализм ли, все виды консерватизма, все виды ворчания по поводу современности и пр.). 5-й есть путь в грядущее, обретение истинной Родины. Бог, коммунизм — вот наше кровное, родное. Других путей нет. И да, Родное здесь обретается через Род, пол, но не таким образом, чтобы прийти к крови и почве, но евангельским: «Кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат, и сестра, и матерь». Наше интимно-родное — Небесная Родина, совпадающая с коммунизмом!
6. То есть у Родины в этом тексте есть два аспекта. 6.1. Каждое существо движется волей к радости; осуществление такой радости, жизни осмысленной и лишенной страданий есть бесклассовое общество. 6.2. Провидя за жизненным потоком вот это родное-вечное, причину и цель бытия, смысл всего, что происходит, последнее онтологическое основание — провидя эту Родину, Лосев таким образом шифрует Бога, Абсолют. Источник жизни — Бог, цель жизни есть осуществление Его воли — всякой радости и всякого смысла. 6.3. То есть родное/половое/любовное = бесклассовое общество = Бог.
Повторим, что все эти диалоги — а также другие тексты из художественного наследия Лосева — вы можете найти в этой книге.
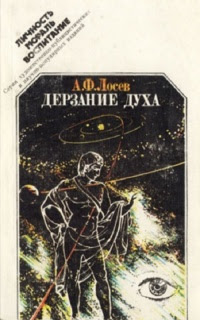
«Дерзание духа» — поздняя книга (опубликована уже после смерти автора) Алексея Лосева. Лосев работал в СССР, то есть был вынужден маскировать свой «идеализм» под советский философский официоз. «Дерзание духа» — на первый взгляд, чисто советская книжка, введение в диалектическую философию. Поэтому ее чтение специфически интересно: чтение представляет особый квест по расшифровке подлинной (христианской) мысли Лосева.
Формально «Дерзание духа» — это сборник статей по диалектике и античной философии, обрамленный диалогами «профессора» и «студента Чаликова» о смысле философии (два диалога в начале, один в конце книги). И правда, книга вполне выполняет свою задачу по введению, первому знакомству с философией, с диалектикой, с античной философией, ближе к концу — кое-что о биографии Лосева, об этических и социальных проблемах, об общем мировоззрении Лосева, но для читателя, знающего философию Лосева, эта книга на своих вершинах открывает и нечто большее. Двигаясь в русле «разрешенной» философии Гегеля — Маркса — Энгельса — Ленина, рассказывая о диалектике необходимости и свободы, абсолютного и относительного, Лосев приводит изумленного советского читателя к признанию Абсолютной Истины. Говоря о ленинской теории отражения, Лосев приводит читателя к признанию того, что субъект, отражая реальность, отражает Бесконечность. Говоря о классовом характере философии, Лосев приводит читателя к признанию безличностной, материалистической природе античной (языческой) философии и к личностной, идеалистической (христианской) природе философии Средневековья и Нового времени, порождающей марксизм. Говоря о смене социально-экономических формаций, субъекте как отражении свободы, бесконечности и творчества реальности, Лосев приводит читателя к признанию того, что история движется к бесклассовому обществу, в котором реализуются эти свобода, бесконечность и творчество — общество братства и мира.
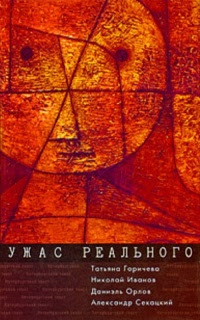
Сковорода — XVIII век, Одоевский и Соловьев — XIX, другие наши авторы — нач. XX, Лосев умирает уже под конец XX. Завершим нашу подборку XXI веком. Это будут две книги диалогов, но уже не выдуманных философом, а «живых» диалогов современных мыслителей.
«Ужас реального» — десять бесед современных российских мыслителей Т. Горичевой (православной мыслительницы), А. Секацкого (философа, коему не чуждо христианское мышление, тематика христианства), Н. Иванова, Д. Орлова. Темы бесед: «Русский хронотоп», «Наваждение глобализма», «Экстремизм: формы крайности», Terra terrorum, «Ужас реального», «Мартин Хайдеггер: глубина и поверхность», «Три тезиса Эммануэля Левинаса», «Святые животные», «Измененные состояния сознания», «Судьба и воля».
«От Эдипа к Нарциссу» — книга-близнец предыдущей, десять бесед современных российских мыслителей Т. Горичевой, А. Секацкого, Д. Орлова. Темы бесед: «Презумпция Другого», «О постмодерне», «Реальное и символическое», «Трансгрессия и предел», «О счастье», «О банальности», «Насилие и священное», «Эрос и трагическое», «Метафизика странствий».
Главная прелесть обоих книг — собственно диалогичность, атмосфера живой, не монологической, не письменной мысли. Разговор нескольких голосов на разные темы.




