
Умер Горбачев; естественно, мы все — жители того, что стало результатом тех процессов, что связываются с его именем — мы все задумываемся, что же это были за процессы, и что же это за результаты.
Возьмем пару демократия // православие. СССР был атеистической диктатурой; перестройку, следовательно, можно понять как попытку сохранения СССР с изъятием атеистической диктатуры: СССР со свободной Церковью и свободным народом/обществом. Было ли это вообще возможным? — в каком-то смысле очевидно, что — да, ибо были ли же эти несколько лет советской демократии и советского свободного православия. Альтернатива была явлена — но сразу же оборвалась катастрофой (распад 91-го — расстрел парламента в 93-м — чудовищная президентская кампания 96 — вот, скажем, несколько вех), которую давайте мы опишем в демографических параметрах (из доклада ООН «World Population Prospects 2022»): Россия занимает первое место по общей убыли населения, по общему коэффициенту смертности — на 6 месте с конца среди всех стран мира; по смертности и до 40 и до 60 — последнее место в Европе и т. д. и т. д… Каждый может вспомнить подобного рода рекорды России за последние 30 лет: первое место по суицидам в Европе, рекордный уровень экономического неравенства…
Территория антропологической катастрофы — территория, освобожденная от атеистической диктатуры? — территория православного возрождения? — территория «суверенной демократии»? Мы видим в конце 80-х народ/общество способное на демократию, способное на православное возрождение, способное на массовое выступления, на созидание разнообразнейших гражданских инициатив и пр. и пр. (очевидно тогда народ не был «испорчен» советским тоталитаризмом — как он почему-то — если верить иным критикам — будет испорчен им через 30 лет). Странно сказать, но все «свободы», что так иди иначе (пока?) у нас есть — включая свободу Церкви, включая экономические свободы — это все пришло еще в СССР, «при Горбачеве»; потом, после пошел скорее обратный процесс… Потом что-то словно ломается, умирает… Но не Церковь — ее влияние растет, строятся храмы и т. д… в некоей рифме с формированием «суверенной демократии» — и все это на территории антропологической катастрофы. Не будем делать тут никаких выводов: просто зафиксируем эту странную роль Церкви во всех этих процессах. Лучше дадим слово очевидцам — и не абы каким, а мыслителям. Страны окажутся их речи.

Великий — и христианский притом — философ Владимир Бибихин пишет дневник. Вот несколько записей, за 1987-1991 гг. Начинаем с этих записей, ибо тут передается атмосфера тех лет — в христианском контексте: нищета; разрастание власти странно совпадающее с разрастанием разрушения, дикости, насилия; нарастание тьмы, несчастья, голой силы: такой увидел Перестройку христианский мыслитель:
Христос человечный, милостивый тысячекратно подменен решительным, топчущим.
Русский стоит на краю, он нищее и беззащитнее всех, он у стенки, в углу.
Передовица Известий: «до каких пор терпеть бесхозяйственность». В тысячный раз. Это призыв: спокойно безобразьте, везде так. Цифры роста преступности в сущности служат тому же. Подъехав к дому, шестеро или семеро «молодых», собственно стая бешеных волков. Спроси однако где зло, в них или в моей неспособности с сочувствием глянуть им в глаза. Без ужаса и осуждения не могу, сразу напрашивается драка. Пушкинский упрек нашим покорителям Кавказа: вместо полков бы лучше миссионеры. Смерть Христа. Единственно достойная человека. На земле орудует злой палач, ты не признаешь его власти, возмущен им и идешь под топор все равно, сам имея топор, острый как бритва, даже два, под рукой. Да, зло царит, но попробуй взглянуть, где. Оно в тебе же и есть.
Люди конечно устали друг от друга, естественно, хотят перетасовки, «смены системы». Это совершенно бессмысленно. Так больной, которому надоели повязки, хочет сорвать их. Все это слепые порывы, от которых будет только больнее, страшнее, безнадежнее. Имеет, имело бы смысл только одно: немножко чуда, немножко благодати. Ты другому этого дать не можешь, но тебе дается, и, хотя дать не можешь, а как то передать можешь. Люди губят, а ты не столько хватай их за руку, сколько не робей, живи все равно добро и широко.
Черные вороны идут за трепыхающимся голубем и хладнокровно поклевывают его. У людей то же, слабого, расклевывают. Это закон природы, и он неотменим. Всегда будет ревностная свора добирающих, доклевывающих, только ослабни и забейся в тоске.
Человек, своенравный воротила, чувствующий страшную силу в своей способности обойти все законы, обтечь, подмять под себя, так же с налету готов подмять и Бога, но вдруг осекается, страшная сила распоясавшейся гордыни с разлету спотыкается о неодолимую силу Кроткого и Нищего, Истощившегося, и эти две силы такие разные, что они по–настоящему, в чистом случае, даже не борются между собой, не уничтожают друг друга. От сшибки таких крайностей что то когда нибудь только и может получиться.
Уведи меня в стан процветающих? Этого русской душе не нужно, она ищет погибающих. Такими были расстрелянные у Зимнего дворца простые рабочие, молчаливый ищущий народ, немногие чистые сердца, которым была противна и власть, и коварство партий; чудаки, скоморохи, дети. Они остались без голоса — или они всегда без голоса? То есть государственный корабль и в части правительства, и в части оппозиции состоял из гнилого материала и на скале должен был разбиться. Вся правда ушла в бессловесное или в таинственное, и на поверхности правды не осталось так.
Человек. Его природа: пожар, экстаз.
Не правительство, а судьба накатывается, перед который мы, ни один из нас, до сих пор не можем встать во весь рост. Какая? Страшная, трагическая.
Рыхлый гуманизм всегда не просто бессилен против «исторической необходимости», а по-своему зазывает ее.
Раньше наши философы были некомпетентны только в философии, теперь, когда им разрешена теология, они стали некомпетентны также и в теологии: ограбили себя.
В газетах новая программа партии. Сырое как никогда (или я не замечал), торопливое, задиристое если не хуже. Страшно. Похоже, что это скользнет мимо страны, время скольжения, дело идет совсем своим чередом.
Да что же это такое, бездонная бочка что ли русский народ? И не верьте мертвой тишине брошеной деревни, бессилию, грязи: именно на этом онемелом, омертвелом просторе готовится новый неостановимый размах. Злость, крутость? Сладкая апокалиптика держит. На самом деле русский размах и не допускает никаких «устроений» и не имеет никакого отношения к самосохранению. Мысль о «сбережении» какого то «русского народа» у нас и не ночевала.
Как выстужена страна. В голодную стужу 1919 года было теплее. Как окончательно выстужена страна, чем?
Волки рыщут и перегрызают горло всему что не устоит.
Подумай о злых: они хотят мучить, жечь, чтобы восстановить какую то жуткую гротескную правду, — собственно, сделать услугу человеку, вернуть его от сна к яви. Так волк режет больного оленя.
Где божья земля, какая тоскливая пустота, голая воля в душе человека Под окном страшно, хрипло, безобразно кричат подростки; в голосах нет ничего человеческого, так будут кричать одичавшие толпы поедая друг друга. Неотвратимо это.
Вечный русский поворот: все становится апокалиптическим, грозно–нагнетенным. Что выльется из этой грозы? Да ничего хорошего.
А. рассказывает о вятской деревне, об одичании жителей, как после чумы или нашествия: никто уже ничего не хочет, нет и грядки с зеленью. Зачем?
Каждый со своим определенным «мнением», словно сумасшедший, у которого ни тени сомнения в своих планах, нет ни минуты тишины, благодатного покоя. Громыхание, оглушающее, пустых железных барабанов, чтобы ошеломить, заставить людей поворачиваться. Особая и вечная порода людей, командиры, которые ненасытимо гонят: невозможно представить достижение, после которого они бы присели, задумались.
Целый день в городе большое движение черных лакированных машин. Один промчался, ведя такую машину, пустую, в злой страсти, сильный мужчина; какая экология, он разнесет и сожжет всё что попадется ему под ноги, как он может что нибудь пожалеть в своем броске.
Удивительная черта нашего времени: словно каждая жилочка тела страны перерезана, и если всей силой она вознамерится подмести себе улицу или спасти несколько тонн картошки на складе (в этом году, похоже, вся картошка погибла), то все равно не сможет. Грозный паралич, который проявляется и в совершенно явном расхождении между указанием и исполнением. Указывают виноватых: огромное количество властей. То есть уберите только эти власти от нашей шеи, и мы всё наладим. Не знаю. Дышит со страшным трудом и хрипом какое то другое, беспамятное существо; душит обморок неведомый, подлунный. От земных верхов идет только простая глушь.
Действует знаменитое «чем хуже, тем лучше», которым страна заразилась давно. Теперь в форме: все погибнет, все бесполезно, так почему бы и мне не действовать. Снова сила, догоняние, крутость. Что одно только нужно стране: дыхание, покой, забота о живом, еще больше о духовном. Так больной и умирающий продолжает тихонько заботиться о высшем, не отчаиваясь, не надеясь; так раненая волчица кормит волчат. Там как хотят, а ты молись об образумлении, об облегчающем вздохе, о простодушии, терпении, труде.
Забрел не в тот подъезд особенных домов на Профсоюзной. Боже мой. Какой холл. Из его темной глубины дама, их охраняют дамы, как амазонки индийского царя и тел охранительницы Каддафи, женщины вернее и зорче. Пронзительный взгляд, без паспорта вызнающий — беззастенчиво, деловито — статус возраст меру самоуверенности настойчивости податливости. Рядом возникла вдруг и другая дама из коренастых. Боже сколько их. Мне грозило все. Обиженный (ὑβριζόμενος) преследуемый, я бежал. Серная кислота в глаза, стекло, иголки — сиди не поднимайся. И это не верхушка, а третий, четвертый разбор. Железно спаянный, чуткий, мгновенно реагирующий миллион, два. Скажете: самосохранение, государственные интересы. Но они живут ежеминутной хваткой, как в окопах, а уж там история…
Простор полей совхоза — бурьян, грязные сады, больные коровы. Злая черная мать, браня старшую женщину сыну, спускается к грязному заросшему ручью мыть громадные полотнища толстой пленки, где то добытой. Разбитый хутор старой мощной кладки. Минводхоз хотел все затоплять, ошибся, растратился, раздумал. Не смотри апокалиптически: это здесь длится долго. Руки, ноги перебиты. Худощавый тракторист на огромном тракторе с гигантским прицепом дисковой бороны привез из леса несколько березовых жердей. Его жена, черная, сильная, рябая, потная водительница грузовика, помогает тащить. Техника несется большей частью пустая по битым или недостроенным дорогам. Смотри в корень: хозяин края, властный М., коварен, хитер, все держит в руках, душит себя, отчитывается и получает премии за гектары кукурузы. Поди подступись. — Но какие просторы, какие холмы. Лески еще остались; церкви из пейзажа уже большей частью вынуты; что страшнее, почти до конца вынуты, погублены реки. Рубишь, стругаешь и видишь вдруг землю нашей: русский рай, простор и воля, широта, щедрость. Тут же холодной струей вливается тонкое зло. Тебе однако до него большого дела нет, если только хоть раз ты сумел отслоиться от него душой. Оно как навязчивая музыкальная фраза; от голодного детства; но сон и молитва глубже.
Россия. Она такая от несказанной тоски. Дело не в том чтобы ее понять, скажем, отмыслив от нее бандитов и хулиганов.
Земля балансирует на краю. Человек тайком давит, жмет, испытывает терпение: бог, мы тебе прищемили хвост, неужели не больно? Прищемим еще. Странно, громилы такие страшные, а ведь они громят только потому что крепко верят фантомам мира. Они бунтуют против оскорбительного бога тирана, но кто им велел сначала в такого поверить. Громила давит и давит, ему кажется что уже он разваливает стены своей тюрьмы. Так звезды взорвавшись яростно жгут всё, восставшие демоны, ярясь. И впустую.
Тебе снится отрывок из радиопередачи: «…А по ним с грохотом пройдут стрелковые подразделения Православной церкви Советского Союза».
Опасная пустота сейчас открылась перед человеком, нет цели, она будет обязательно заполнена. Может быть это происходит не только у нас, а вообще в воздухе. Может ли торговый интерес заполнить пустоту? Природа не любит пустоты.
Много лжи, подстановки. Люди несут как обезумевшие от страха и ярости. Честнее быть нигде.
Когда страшно, жутко, прикасается к другому, страдающему, загнанному так же; скрыться некуда, они выслежены, опознаны, будут добиты; этим прикосновением обреченных они спасены, Бог взглянул на них, окаймил невидимой радугой, миру в этой месте быть.
Разрушат, как обязательно сломают снежную бабу, особенно если хорошо сделана. «И всю ночь напролет жду гостей дорогих, шевеля кандалами цепочек дверных». Стихия та же здесь и там, та самая, о которой Горький: «полудикие, глупые, тяжелые люди русских сел и деревень… почти страшные люди». Научись их любить; кроме них у тебя только бумажные, нарисованные. И потом все равно не скроешься нигде, достанут везде. Никогда никуда не беги. Стой где стоишь.
Хорошо вокруг «кооперативной» продажи, секс–пособий и западных дорогих вещей: как рукой снимает философические мечты, делает таким полым всё твое говорение, таким ясным что никто не слушает и слушать не подумает. Умолкни, отсохни язык, научись говорить иначе.
Страна сворачивается в мрак. Люди на заводе перестают знать, зачем работать.
Сегодня снова Россия будет кривиться под меткой ложью на нее.
Мужчины, мужчины, их много, они асфальтируют и без того хорошую и очень широкую дорогу — парадный плац М., здешнего феодала. Очередь, гуляющие, все в цепенящем, не отпускающем сне. На лицах застарелая тревожная серость, ах от проблем, которые можно было бы решить в один день все, а десятилетиями давят.
Почему то тушу государства надо всякий раз снова и снова растрепывать. Дело политики, она должна этим заниматься? таков жанр, условия игры? Ничего более интересного людям, любящим захват, не подвертывается? Или стадо кажется так велико и рыхло что неудержимо хочется его стричь, резать, всё больше, испытывая. Всем смертельно скучно устраивать, накоплять, поэтому все очень быстро перемагничиваются вокруг новой силы. Люди размахиваются для того чтобы их схватили за руку, но никто не хватает. Есть «народ», который должен был бы наконец что то сказать, но молчит. Значит, опять пока еще не то…
Ты идешь в учреждения власти, хочешь сохранить лицо … она /власть/ любовно, бережно готовит тебя к тому чтобы и через неделю, и через две, и через три ты снова ходил и ходил по тем коридорам и она бы тебя сладко учила, раздавливая, осаживая, вводила в разум, в чувство, пропитывала своим знанием. Каким? Что народ — мальки в банке, рожающие–рождающие. Ты видел этот народ на улице в погоне за крохами, малопитательными, и «яко агнец перед стригущими его безгласен». Попробуй ты, на самом дне банки, исхитриться как нибудь так чтобы не все силы твои тратить на копошение. Старый странный малек в банке метро, оглядываясь на других в воде, не мог остановиться на их глазах. Слишком ясное и обреченное знание шло от них. Забота, нищета и ожидание слишком были ясно прописаны на твоем лице, а другого ничего они там не видели. Человек чуть шевельнулся, и шевеление, как всякое шевеление, сейчас же дало новую жизнь армии контролирующих, которые заботливыми пальцами ведут каждый кусок к каждому рту, старательно отламывая от него по дороге.
Сколько силы. Библейская страна. Может быть, всякая страна такая? Что разницы, когда сила льется водопадом и ложится плашмя в грязь. Мы стоим, или лежим, на пороге мира. Слепые гиганты. Почти никто не делает никакого «дела» и не будет. Мы спим.
Крутые мальчики мстят и долго еще и жестко будут мстить за что? За чушь, которую им втолковывали, вбивали, когда они были еще послушные, вбивал кто? Серые мышки, которые на фоне государства занимали исчезающе крошечное место, детскосадовские дамские существа. За это всем будут мстить, очень упорно, растопчут в мести робкий росточек настоящей травки. Визги «писателей» смехотворны. Они писали не то что надо было. Они писали на бланках, которые им загадочные руки из темноты подсовывали и потом исписанными забирали и куда то посылали дальше. Таинственное темное движение. Что, думаете, политиков, людей? Вовсе не только их. Хуже. Глубже. Страшнее. Говорящие вредят несравненно крупнее чем не говорящие. Говорящие страшно много делают. Они делают так, что издалека нарастает и широко размахивается месть. Месть за дела разве? Нет, за слова. За каждое слово несоразмерная месть. Это ли не торжество литературы? «Дикий капитализм». Вернее сказать: триумф российской словесности, ее очистительный костер.

Бибихин — великий представитель советского православного возрождения; как и композитор, философ, богослов Владимир Мартынов, который в своей «Автоархеологии» пишет о времени Перейстройки: она была концом своеобразной советской Касталии, концом совершенно особой, сложной, объемной, культуры; частью этой культуры было Православие и катастрофа Перейстройки была и катастрофой Православия; и дальше: это вовсе не наши национальные процессы, но некое общемировое событие:
«А потом началась перестройка, и теплое время романтического коммунального существования в одночасье завершилось. Повеяло холодом рыночных отношений». Речь должна идти не о какой-то региональной ночи, имеющей место только на территории Советского Союза, но о ночи мировой, от которой не могут спасти никакие географические перемещения и никакие смены культурных декораций. И действительно, какой смысл было уезжать в другие страны и менять культурные декорации, если сама культура превратилась для меня в пустую безжизненную декорацию, в которой давно уже не происходит никакого действия? Вот почему я четко понимал, что мне нужно как можно скорее покинуть пространство культуры, и вот почему, покидая его, я практически не испытывал ни сомнений, ни сожалений. Перемещение из пространства культуры в пространство Церкви.
Свободу давала мне Церковь, ибо Церковь того времени, будучи принципиально отделена от государства, отделяла меня от тех людей, которые это государство представляли. Не думаю, что при аналогичной ситуации в наши дни я мог бы пережить нечто подобное. Правда, теперь я вообще много о чем подобном не думаю…
Как я счастлив, что почти всю перестройку мне удалось просидеть за монастырскими стенами, в Церкви, под покровом преподобного Сергия! Как я счастлив, что Церковь удержала меня от многих соблазнов перестройки! Трудно представить себе более пустое, более непродуктивное и вместе с тем более кичливое время.
На протяжении большей части перестройки Церковь действительно выполняла для меня роль Ноева ковчега, внутри которого можно было до поры до времени укрываться от происходящего во внешнем мире, но мощные течения мировой истории постепенно и неумолимо начали выносить этот ковчег на какие-то новые, неведомые просторы.
Вообще, мне кажется, ошибаются те, кто думает, что перестройка была каким-то специфически советским явлением, происходившим только у нас и порожденным исключительными обстоятельствами советской истории. Я уверен, что советская перестройка представляла собой лишь частный случай всеобщей Великой перестройки мира, переживающего в тот момент фундаментальный цивилизационный сдвиг. В разных регионах и в разных обществах эта Великая перестройка проявлялась по-разному, но суть ее была одной и той же: смерть старого мира и рождение принципиально нового мира.
Здесь дело обстояло примерно так же, как в случае с демонтажем Берлинской стены, на протяжении долгого времени надежно разделявшей два противостоящих друг другу мира. В какой-то момент перестроечные процессы привели к тому, что стена, отделяющая Церковь от государства и от общества, рухнула, в результате чего произошло великое смешение, в котором Церковь перемешалась с государством и миром, а государство и мир перемешались с Церковью.
Если раньше абсолютно бесправная Церковь держала глухую круговую оборону по отношению к государству, а государство всеми доступными ему средствами всячески гнобило Церковь, то теперь Церковь получила полную свободу высказывания собственной позиции в пространстве государства, а государство стало не прочь использовать авторитет Церкви для укрепления своих позиций. И эти принципиально новые взаимоотношения просто не могли не оказать влияния и на внутрицерковную ситуацию, которая, как мне кажется, до сих пор еще не до конца осознана.
Этим мыслям мы находим концептуальное развитие в может быть лучшей книге Мартынова «Зона opus posth, или Рождение новой реальности»:
Та особая ситуация, которая порождается специфическим состоянием христианства наших дней, и суть которой сформулирована в словах Апокалипсиса, обращенных к Ангелу Лаодикийской церкви: «Ты ни холоден, ни горяч: о, если бы ты был холоден, или горяч! Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих. Ибо ты говоришь: “Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды”; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг» (Откр., 3:15–17). Исходя из этих слов, можно заключить, что основная беда Лаодикийской церкви (а стало быть, и беда всего современного христианства, ибо, согласно святоотеческому учению, Лаодикийская церковь представляет тот исторический период, в котором мы живем сейчас) заключается не в том, что она несчастна, жалка, нища, слепа и нага, но в том, что, будучи несчастной, жалкой, слепой и нагой, она не осознает себя таковой, но Утверждает совершенно обратное, вещая о своем богатстве и своей самодостаточности. Богатство церкви — это Бог, и когда текст Апокалипсиса говорит о нищете и наготе Лаодикийской церкви, то фактически речь идет о том, что эта церковь лишена своего богатства, то есть Бога, она пребывает в ситуации отсутствия Бога, или, как сказал бы Хайдеггер, в ситуации нетости Бога. Однако, реально пребывая в ситуации нетости Бога, церковь ощущает себя настолько переполненной Богом, что считает возможным изливать эту мнимую переполненность на весь мир, претворяя в жизнь слова Ангела Лаодикийской церкви: «Я разбогател и ни в чем не имею нужды». Современной иллюстрацией к этим словам могут служить грандиозные шоу, устраиваемые папой на многотысячных стадионах, или казинообразные интерьеры храма Христа Спасителя. Таким образом, подлинное богопознание наших дней будет заключаться в познании божественного отсутствия, в познании нетости Бога, осуществляемом вопреки всем существующим ныне иллюзиям божественного присутствия и наполненности Богом.
Нетость Бога — эти слова являются ключевыми также и для познания природы нового сакрального пространства. Если сущностью старого сакрального пространства являлось пребывание в сакральном, то сущностью нового сакрального пространства будет пребывание в невозможности сакрального, понятое как страшная сакральная данность. Для того чтобы приблизиться к пониманию проблемы нового сакрального пространства, следует вспомнить дальнейшие слова Апокалипсиса, обращенные к Ангелу Лаодикийской церкви: «Советую тебе купить у Меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была срамота наготы твоей; и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть» (Откр 3:18). Сакральное пространство существует вне человека и помимо человека. Оно не может быть создано человеком, оно может быть предоставлено или даровано человеку как то, в чем он будет пребывать. Новое сакральное пространство — это одновременно и золото, огнем очищенное, и белая одежда, и глазная мазь, которые могут быть куплены у Бога. Ценою же этой покупки или же, лучше сказать, необходимым условием приобретения предлагаемого Богом является осознание своей нищеты и наготы, которое есть не что иное, как осознание факта нетости Бога. Нетость Бога, понятая как сакральная данность, есть то, благодаря чему обретается новое сакральное пространство, то, из чего оно рождается, то, без чего оно не может стать реальностью. Осознание факта нетости Бога есть та лепта, которую должен внести человек для того, чтобы очутиться в новом сакральном пространстве, приготовленном для него Богом. Однако специфика современной ситуации заключается в том, что, пребывая в состоянии нетости Бога, мы не способны осознать это, мы не можем осознать своего пребывания в божественном отсутствии. Об этом свидетельствуют слова апокалипсиса: «Ты говоришь: “Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды”; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг». Об этом же говорит и Хайдеггер: «Время мировой ночи — бедное, ибо все беднеющее. И оно уже сделалось столь нищим, что не способно замечать нетости Бога». Вот почему сейчас не может идти речи о реальном существовании нового сакрального пространства. Новое сакральное пространство — это пока что лишь линия горизонта, постоянно удаляющаяся от нас по мере нашего приближения к ней, это лишь некая интенция нашего современного существования.
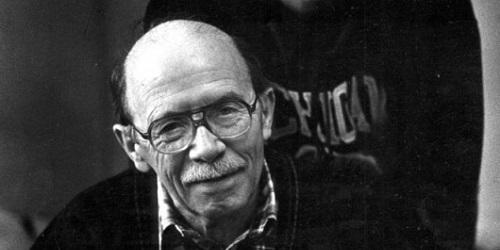
О чем тут собственно говорит Мартынов? — ответ находим у советского постмарксистского философа (не чуждого теологии) Михаила Гефтера: конец коммунизма есть неким глубинным конец истории, последнего великого проекта «истории» как таковой — той странной реалии, что некогда была рождена Ветхим и Новым Заветами. Некоторым образом конец СССР — неудача Перестройки — есть конец истории вообще, в смысле: конец того, что начато было Библией. И сразу скажем: Мартынов более оптимистичен: да, наступил конец — вообще глобальный конец, не СССР только, но где конец, там и начало; другой вопрос, что единственный шанс в это новое вступить заключается в осознании нашей нищеты. Но дадим слово Гефтеру; в его книгах «Третьего тысячелетия не будет. Русская история игры с человечеством» и «1993. Элементы советского опыта» можно найти много конкретно и о Горбачеве, о Перейстроке и т.п., но нам интересно следующее:
Когда три человека в Беловежской пуще отменяют Советский Союз, я это прямо ввожу в то, что кончилось нечто тысячелетнее — Землю оставила идея человечества как вневидового родства людей. Идея покидает мир вот таким именно образом: покидая, не уходит, — но творит комиксы Беловежья, с куклами старосоветских персонажей и иные сложные мистификации Homo sapiens. Разве история — это «все, что менялось во времени»? И есть история Млечного пути, история амебы? Нет. В строгом смысле, история бытует в единственном числе — всемирная история однократна. С условно иудеохристианского рубежа, в его сложной связи с азиатскими очагами, история строилась как проект человечества. Проект столько всего дал людям, но оказался неосуществим, ведь в зародыше его — утопия. Вневидовое родство людей не состоялось в виде человечества.
Христианство переводит Homo mythicus в состояние Homo historycus’a, утопического человека. Модусом существования человека в истории стала утопия, а не миф. Появляются понятия человечества, исторического времени и многое другое. Христос (в отличие от пророков) категорически утверждает, что время Страшного суда настало — Второе пришествие начало обратный отсчет. Время отсчитывают от будущего, а отсчет формирует место для прошлого, сетка предшествований во времени. Утопия не утонченная форма мифа, а его оппонент. Миф имеет свойство обращать все в настоящее — все, что было, в то, что будет; ведь те, кто был и кто будут, равно сущие. Утопия бросает вызов мифу — она разделяет времена. Первой истинно мощной заявкой на утопию я вижу первоначальное христианство. Мысль о новой твари, о новом человеке краеугольна для утопии. Равно представление о людях всего света как человечестве — едином объекте и предмете проектирования. Победу Сталина можно рассмотреть как победу антиутопии, а поражение Ленина как уход утопии с прорывами в нечто иное, новое, чему нет соответственных слов.
Тридцатые годы ХХ века — это добавочное осевое время, еще одна мировая развилка. В том осевом моменте много линий: Гитлер, Сталин, Ганди, Рузвельтов New Deal, переход китайской революции в русло Мао. Мир тянется к непознанной альтернативе, но страшно осекается. Вместе с тем порождая предальтернативы, работающие на будущий ход вещей. Тоталитаризм негативно опередил альтернативу. Он показал, что там, где альтернатива не вызрела, запаздывает и создает политические трудности, ее можно прервать смертями. В качестве ответа на предальтернативность вводится убийство, смерть.
В России снова проигрывается праситуация Homo sapiens. Путь шел через табу на убийство своих и свободы убийства не-своих, чужих. Через идею упразднения убийства созданием аэволюционного родства в человечестве. И перешел к восхождению, равнозначному избирательной гибели. А сегодня куда? К чему нам теперь вернуться? К табу на убийство своих, а следовательно, к новой свободе на убийство чужих? К оживлению внутри глобализации страшного слова наш, которое заранее предвещает расправу, а стало быть, кровь? Надо иметь элементарное мужество признать, что конец избирательной гибели равен концу истории как восхождения, как бытия в форме экспоненты.
Мы вернулись к страшно увлекательному, но и самому темному моменту возникновения человека. С какого-то времени человек уже относим к иному роду по отношению ко всем прочим родам живого, ко всем формам жизни без исключения. Homo sapiens — это восставший против эволюции род. Здесь возможны самоутраты, зато возможны и самовозобновления — переначатия человека как человека. По отношению к средиземноморскому миру таким я вижу рубеж конца Pax Romana — Голгофу. В следующее время переначатия мы входим только сейчас.
Человек — аномалия. Наш предок был обреченная тварь. Некое обреченное существо выскользнуло из своей обреченности и из того, что ее обусловливало, сумев сбыться человеком и не ведая, куда это заведет.
Несбывшееся человечество мнимо осуществилось глобализацией. Проект человечества сделался невозможным в его функции условия воспроизведения вида — зато в формах глобально осуществленного стал вероятным фактором самоуничтожения. Из сферы, где царила холодная война, в абсурднейшей перспективе панубийства человека и высших форм жизни вообще, идет прорыв к жизнедеятельности человека, где основным ресурсом будет уже не Земля, а сам человек.

Гефтер ввел нас в центр проблемы: марксизм, коммунизм в его связке с христианством. Мы сказали уже, что была сложная, объемная советская культура — Бибихин, Мартынов, Гефтер и сколько еще выдающихся людей — её образичики, но может быть лучший пример — Генрих Батищев — великий марксистский философ и православный теолог: СССР мог, был способен породить и такое. Нашу формулу Перестройки: сохранение СССР с изъятием атеистической диктатуры — срыв, катастрофа этого сохранения надо прояснить: следовало сохранить что? — великие социальные достижения советской системы, мечту о справедливости, мире, интернационализме — в частности надо было сохранить марксизм как школу, традицию мысли, где все это было возможно концептуализировать: вот упущенная альтернатива, вот более точный диагноз катастрофы. Такую альтернативу представлял как раз марксист-криптотеолог Батищев, его в частности поздние тексты — и заметьте, что как и Гефтер, Батищев говорит в первую очередь о человеке, в его некоем изменении видит шанс на спасение:
Чтобы уразуметь всю глубину альтернатив для нравственного выбора, которую разверзает перед нами перестройка, её саму, происходящую как радикальное изменение социальных обстоятельств, надо слить воедино с переустроением человеческим, с вырабатыванием нами самих себя – в достойных нашего универсального созидательного призвания. Поэтому как ни важны, как ни радикальны альтернативы исторически-социальные, альтернативы перестройки, всё же ещё важнее, ещё гораздо радикальнее – великая альтернатива над-историческая: между приятием или неприятием человечеством и каждым человеком своего универсального безусловно-ценностного призвания, между своецентризмом, повернувшимся спиною к беспредельной, неисчерпаемой диалектике Универсума [псевдоним Бога в марксистской криптотеологии Батищева], и посвящённостью ей, до конца последовательной другодоминантностью, сотворчеством.
До сих пор человеческая нравственность и альтернативы выбора бывали скованы ситуативно – тем, что человек выступал как часть, придаток, функциональный орган социального организма. Перестройка-переустроение ведёт к актуализации того, что раньше было потенциальным, неявным: человек всегда больше части данного окружающего его социума, всегда многомернее наличных связей, всегда «бесконечнее, чем гражданин государства» (К. Маркс), ибо в человеке виртуально содержатся все возможные типы социальности, все формации, включая и не реализованные в истории. Такой, не вмещающийся своим виртуальным богатством в социум, конкретный человек – уже не часть, не средство для социального целого, но критически-творческий участник. Соответственно, для такого критически-творческого участника и все локальные, все ситуативные нравственные альтернативы для выбора выступают не сами по себе, а лишь как частные и локализованные формы проявления или преломления альтернатив надлокальных, над-ситуативных, над-исторических и пронизывающих всю судьбу человечества на Земле.
Чудовищными лишениями, муками и горем, расчеловечиванием и кровью миллионов заплатили мы за низведение мировоззрения до уровня уличных лозунгов, за вытеснение души и духа из личности мнимой однозначностью и предельной упростиловкой, за поклонение грубо примитивным идеологемам, кумирам-идолам, за одноплоскостность и даже однолинейность сознания, которое тем самым и оказалось полностью подкупленным, запуганным и пленённым в сéти идеологического манипулирования – сознанием тотально и тоталитарно-общественным и вовсе безличностным, бесчеловечным. Так неужели же теперь, в наступивший период падения идолов, распада механизмов авторитарно-тоталитарного самоотчуждения и поклонения, мы сохраним в себе самих уповательство на однозначно положительный смысл тех наших символов и понятий, которые мы принимаем и которыми руководствуемся?! Неужели пренебрежём скрытой за поверхностным слоем антитетикой? Как легко не ведать никаких сомнений, никаких антитез и двойственных смыслов! В нашей массовой печати стали появляться предсказания того, что то ли «после коммунизма», то ли «после перестройки» наступит счастливейшая «эпоха гуманизма»!
Невосприимчивость к смыслу глобально-экологических проблем, пагубная тенденция к её нагнетанию по сути дела совпадает с нарастающим дефицитом тех самых субъектных качеств, которые должны отличать человека перестройки и делать его восприимчивым к их смыслу. И здесь проступает аналогичный порочный круг: перестроечные процессы выступают для человека как какие-то извне нагрянувшие события; но неприятие этих процессов в качестве сугубо своих собственных и жизненно насущных, неприятие их человеческих измерений лишь подталкивает человека к дальнейшему снижению ценностного потенциала. Искомый тип человека – такой, который был бы ответственно отзывчив ко всем глобально-экологическим проблемам, и таков, который был бы и пролагателем стратегических путей перестройки и, главное, осуществителем её высшего, итогового назначения, – это по сути дела один и тот же человеческий тип.

Как мы знаем теперь, Батищев пытался осмыслить альтернативу, коей не случилось реализоваться. Коммунизм, марксизм умер. Жак Деррида, вероятно главный мыслитель того времени, посещает СССР под самый его конец. «Жак Деррида в Москве: деконструкция путешествия» — его книга, как раз посвященная этому. Здесь Деррида комментирует три текста, в свою очередь, посвященные посещениям западных интеллектуалами СССР: Беньямина, Этьембля, Жида. Притом Деррида читает эти тексты в контексте «давней конкуренции греческой и библейской, мифологической и моисеевско-мессианской моделей». Еще несколько цитат:
Само название СССР является единственным в мире названием государства, не содержащим в себе никакой отсылки к местности или к нации, единственным именем собственным государства, в котором нет имени собственного в обычном смысле слова; СССР — это имя государства-индивида, уникального и сингулярного, которое присвоило — или хотело присвоить — себе имя собственное без какой-либо отсылки к единственности места или национального прошлого. При зарождении оно дало себе чисто искусственное, техническое, концептуальное, абстрактное, конвенциональное и конституционное название, нарицательное, „коммунистическое”, чисто политическое имя. Я не знаю другого аналогичного примера.
„Строительство” потерпело неудачу, мнимое осознание (la prétendu prise en compte) этой неудачи открывает эру перестройки, а это слово также означает: „строительство”, „строительство заново”, „реконструкция”, т. е. строительство, которое начинается или возобновляется со следующей попытки. Эта новая попытка предполагает, что первая попытка строительства закончилась неудачей или потерпела поражение, „подверглась деконструкции”. Я сам не осмелился бы сказать „была деконструирована”, если бы мои собеседники из Института философии Академии наук в Москве не утверждали на полном серьезе, что таков наилучший перевод; в разговорах между собой они переводили слово перестройка как „деконструкция”.
Мои московские собеседники и я без труда пришли к согласию относительно того, что никто не знает, что есть, что значит и во что выльется перестройка. Ее природа, единство ее смысла остаются предельно темными, в том числе и для тех, кто считает себя решительными сторонниками перестройки (включая первого из них, Горбачева). Сущностная непроясненность, которая целиком отдает ее на откуп будущему, — такова причина моей максимальной сдержанности по отношению к переводу слова „перестройка” термином „деконструкция”.
В «Призраках Маркса» — в одной из лучших своих книг — Деррида деконструирует — перестраивает — марксизм — после его смерти — чтобы возродить его, возродить во имя его мессиански-эсхатологического духа, возродить Альтернативу:
Я уже слышу реплику: «Нашел время приветствовать Маркса!» Или же: «Сколько воды утекло!», «Почему так поздно?» Я верю в политическую силу неуместности. И если у несвоевременности нет более или менее рассчитанных шансов явиться как раз вовремя, то несвоевременное, имеющее отношение к какой-либо (политической или иной) стратегии, еще может засвидетельствовать именно справедливость, засвидетельствовать, по крайней мере, требуемую справедливость, о которой мы выше утверждали, что она должна быть разлаженной и несводимой к правильности и праву. Но здесь представлена не решающая мотивация, и надо было бы наконец– то покончить с упрощенчеством таких лозунгов. А что непреложно, так это то, что я не марксист. Напомним, что очень давно так говорил кто–то, чью остроту сообщил Энгельс. Надо ли еще спрашивать разрешения у Маркса, чтобы сказать: «Я не марксист»? По каким признакам следует узнавать марксистские высказывания? Да и кто теперь может сказать: «Я марксист»?
Продолжать вдохновляться определенным духом марксизма означает сохранять верность тому, что всегда превращало марксизм — в принципе и прежде всего — в радикальную критику, т. е. в доктрину, готовую к собственной самокритике. Такая критика стремится быть принципиально и явно открытой в сторону собственной трансформации, переоценки и само–переинтерпретации. Такая «само» — критичность с необходимостью укоренена и углублена в почву, которая пока не является критической, хотя и не является докритической. Этот дух — более, чем стиль, хотя и стиль тоже. Он многое наследует у духа Просвещения, от которого не надо отказываться. Мы отличаем такой дух от других духов марксизма — тех, что приковывают его к телу марксистской доктрины, ее мнимой системной — метафизической или онтологической — тотальности (особенно к «диалектическому методу» или к «марксистской диалектике»); к его основополагающим понятиям труда, способа производства, общественного класса и, следовательно, всей истории его органов (мыслимых или реальных: Интернационалов рабочего движения, диктатуры пролетариата, единственной партии, государства и, наконец, ужасов тоталитаризма). Ибо деконструкция марксистской онтологии — скажу как «хороший марксист» — зависит не только от некоего теоретико–спекулятивного слоя марксистского корпуса, но от всего, что привязывает его к в высшей степени конкретной истории органов и стратегий мирового рабочего движения. И эта деконструкция — в конечном счете — не является ни методической, ни теоретической процедурой. В своей возможности, как и во всегда складывавшем ее опыте невозможности, она никогда не является чуждой событию — просто–напросто прибытию того, что наступает. Некоторые советские философы говорили мне в Москве несколько лет назад: лучший перевод для термина перестройка — это все–таки «деконструкция».
Сила воздействия, присущая коммунистическому обещанию, будет всегда связана с этим абсолютно неопределенным мессианским упованием, неопределенным в самой своей сути, с этим эсхатологическим отношением к наступлению некоего события и некоей уникальности — инаковости, которую невозможно предвосхитить.
Сегодня в мире господствует или становится господствующим определенный способ высказываться о трудах и мыслях Маркса, о марксизме (который, возможно, от них отличается), об исторических деятелях социалистического Интернационала и мировой революции, о более или менее медленном разрушении модели революции марксистского толка, о недавнем скоротечном и стремительном крушении обществ, которые пытались использовать марксизм, по крайней мере, тех, которые мы сейчас — следуя за «Манифестом» — назовем «старой Европой», и т. д. Этот господствующий дискурс зачастую принимает ту маниакальную форму ликования и заклинания, которую Фрейд приписывал так называемой триумфальной фазе работы скорби. Заклинание повторяется и превращается в ритуал; оно придерживается формул и зависит от них — как и во всякой анимистической магии. Оно превращается в навязчивый, бессмысленный мотив. В ритме размеренного шага оно скандирует: Маркс мертв, коммунизм мертв, действительно мертв, со всеми его надеждами, речами, со всеми его теориями, и практиками, да здравствует капитализм, да здравствует свободный рынок, виват экономическому и политическому либерализму!
Если мы говорим, что эта гегемония пытается навязать свою догматическую оркестровку в ситуации подозрительной и парадоксальной, то дело здесь, прежде всего, в том, что это триумфальное заклинание на самом деле силится отрицать, а значит скрыть, что никогда, никогда еще в истории, горизонт того, чье продление жизни празднуется (то есть всех старых моделей капиталистического и либерального мира), не был столь мрачным, зловещим и неопределенным.
P. S.

Коммунизм — продолжая христианство — был интернационалистическим проектом; Деррида — как и Гефтер — много писали об этом, как и о опасности возрождения всех возможных национализмов после крушения коммунизма, после крушения мечты о мире народов, их мирном единстве. Сам коммунизм был впрочем «русским», как изветсно. Под конец дадим слово очевидцу не конца, а начала СССР, и тем закольцуем все наши темы.
Непосредственная реакция Бердяева на большевизм была резко отрицательной («Духовные основы русской революции»). В поздней же книге «Истоки и смысл русского коммунизм» Бердяев относится к большевизму, если не положительно, то во всяком случае не огульно отрицательно (помимо прочего ту находим целую апологию Ленина как личности, так и политика).
Тут важно уяснить вот что: Бердяев и здесь критикует большевизм, советскую власть весьма и весьма остро, но за что? — не за социализм собственно говоря, а за тиранию, за тоталитаризм. Бердяев здесь — христианский анархокоммунист, который критикует большевизм не в смысле апологии капитализма, либерализма, монархизма, национализма и т. п., а наоборот: все отрицательные черты большевизма связываются Бердяевым с тяжелым наследием русского самодержавия, с русской управленческой культурой, с тяжелыми травмами Первой мировой и т. д. Большевизм плох тем, что он не либертарно-эгалитарен, не социалистичен. Бердяев производит анархистскую критику большевизма, критику государства, критику этатизма.
Прямо и четко Бердяев здесь защищает либертарный социализм. В этом смысле и марксизм Бердяев защищается в таких его аспектах как: преодоление вульгарного материализма, критика отчуждения, «экзистенциальная политэкономия», борьба с капитализмом, проект свободного, безгосударственного, безрыночного общества и пр. Критикуется же Бердяевым марксизма в тех его аспектах, где он не смог преодолеть буржуазно-индустриальной культуры: атеизм, детерминизм и т. п.
Ближе к делу. В чем суть книги? — я бы ответил бы так: Бердяев задает «веберовский вопрос» о религиозно-социологических предпосылках большевизма. Большевизм есть «переключение религиозных энергий» на мирские (социально-политические, социально-экономические) сферы; задействование структур, паттернов, механизмов, произведенных в религии — во вне религии.
А именно: русская интеллигенция (чьим конечным, итоговым продуктом явился русский марксизм) просто-напросто даже чисто социально во многом сформированы выходцами их духовного сословия, из детей священников, из семинаристов и т. д. Тип сознания, тип идеалов, тип поведения русского революционного движения есть тип, сформированный в православии. Таким же образом и массы, поддержавшие большевицкую революцию — это массы, так или иначе сформированные православием. Большевизм, Русская революция есть секуляризация православия, в смысле — его задействование (задействование энергий и структур, произведенных в православии) в социальной, экономической, политической областях. Православие само в себе уже всегда — антибуржуазно, анархично, социалистично и т.п.: народ, культурные, политические элиты, выращенные (так или иначе) в нем творят соответствующую революцию. Бердяев вполне четко — и идейно, и социологически — прослеживает внутреннее тождество славянофилов, народников, нигилистов, большевиков, Толстого, Достоевского, русской религиозной философии.
Чем же вызвана сама эта секуляризация? — резким разрывом Церкви, эмпирического православия и идеалов, энергий, структур им порожденных. Церковь обмирщилась, стала одним из органов Империи, далекой от православных идеалов настолько насколько это вообще возможно. Таким образом «православные» по типу своего сознания, по типу своих энергий люди восстают против Империи — и ее церкви. Империя, пишет Бердяев, полностью прогнила: ее надо было разрушить; и в частности гонения на церковь, вообще воинствующий атеизм — закономерное следствия всей этой исторической диалектики.
Но тут и капканы большевизма. Их два. Как сказано уже; тиранический, деспотический, бюрократический, государственнический тип большевизма идет не от марксизма, а от наследия Империи. Империя тоже создала свои структуры, паттерны, механизмы, которые наследует большевизм. Это предопределяет худшие черты в нем: наложившие еще и на генезис большевизма из войны, из разложения Первой мировой: милитаризм многое в советском проекте предопределил (гекатомбы Первой мировой — начало гекатомб советского тоталитаризма). И второй капкан: революция смогла победить в силу секуляризации православия. Но большевизм, уничтожая старую Россию, «американизируя» ее, уничтожая церковь и пр. уничтожает месторождение тех энергий, структур, паттернов, идеалов, которые его и создали. Бердяев пишет, что это приведет к остановке производства тех энергий, что создали большевизм; что победа большевизма в конечном счете приведет к победе буржуазности в России. Мы теперь знаем, что этим действительно все и кончилось.




