
Успение Приснодевы — для многих самый странный праздник Церкви, непонятный и даже смущающий: что празднуем? — смерть? — чью? — некоего женского божества? Этот-то праздник кажется мне исполненным глубочайшего чисто христианского смысла, и того самого смысла-света, что нужен нам — всегда, конечно — но особенно сейчас.
Смерть? — «успение», расцветающее воскресением Девы. Иисус, Сын Девы, искупил грехи мира, спас мир: и это спасение не отложено на трансистоическую даль, на «после» Воскресения и Суда, но оно уже произошло — и актуально присутствует — всей своей нежнейшей любовью — со всеми страдающими существами: воскрешенная, обоженная, восславленная Дева. Совершенство во всей радостной полноте уже достигнуто: тварное, земное, человеческое, женское — и подпавшее первородному греху, а потому смертное — спасено, воскрешено, обожено, восславлено — в Деве. Творение — в своей материальности, своей телесности, в своей гендерности (там, где тело переходит в душу-дух) актуально достигло Царства Славы: приснодевство. И вот мы уже наметили главные точки: материя, тело, гендер, душа, политика (Царство Славы, Небесная Полития). Что бы ни происходило здесь, в эмпирии — несмотря на смерть, страдание, боль, грязь, насилие, безумие: в существенном смысле, в онтологическом, теологическом смысле — радостное нежное любовное чистое светлое совершенство, совершенное обожение земного уже достигнуто, и это-то празднуется в Успении Приснодевы; в Успении находим ответы-исцеления на наши вопросы-болезни.
Здесь подобраны семь текстов: открывающий и замыкающий тексты, вводящий в проблематику и итожащий ее — два классических святоотеческих текста, а между ними — пять современных текста. Они разъяснят нам смыслы догматики Успения — ее материально-телесный, гендерно-психологический, социально-политический аспекты.
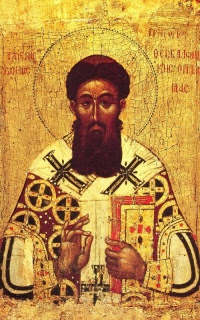
Первый наш текст — Омилия святителя Григория Паламы, великого теолога, на Успение Приснодевы:
«родившее тело справедливо со-прославляется богоподобной честью с Рожденным им; и со-воскресает … Она немедленно была взята от гроба в пренебесную область, откуда снова испускает на землю светлейшие и божественнейшие сияния и благодати, просвещая сим весь земной удел, и от всех верных покланяемая, восхваляемая и воспеваемая. Потому что когда Бог, пожелав поставить образ всего прекрасного и Свое подобие открыто представить и Ангелам и людям, тогда Ее до такой степени, воистину, всепрекрасной соделал, сочетая (в Ней) в целокупности все черты, которыми все Он украсил в отдельности; явив в Ней мир, созданный из сочетания видимых и невидимых прекрасностей; лучше же сказать, — явив Ее общим сочетанием и высшею красотою божественных и ангельских и человеческих всех прекрасностей, украшающей оба мира, от земли восходящей и даже до неба достигающей, и Своим ныне вознесением от гроба на небо даже его превосходящей, и соединившей дольний мир с горним, и вселенную исполнившей Своими чудесными делами … Сам Бог восхищается и восхваляет Ее, как бы возвещая Ее окружающим Его (небесным) силам, и говоря, согласно реченному в Песни Песней: «Как прекрасна Ты, Ближняя Моя», светлейшая света, более исполненная цветения, чем — Божий рай, более прекрасная, чем весь видимый и невидимый мир! … Она единая является границей между тварной и несотворенной природами, и никто не пришел бы к Богу, если только чрез Нее не был бы истинно озарен истинно божественным озарением … Радость — сущих на небе, Красота — всего творения».
Выделим основные темы: воскресение, обожение, восславление телесности — эта уже райская, обоженная плоть Девы — эта радостная красота — соединяет тварное и нетварное: точка их неразличимости. В воскрешенной плоти Девы смысл творения уже осуществлен; «конец истории» уже наступил; Царство уже установлено. Заканчивает свою омилию св. Григорий Палама — столь возвышенную, столь, казалось бы, далекую от эмпирики — социально-политически: как мы скоро увидим, это совсем не случайно:
«Разреши охватывающие нас узы! Зриши каковыми и коликими бедствиями мы изнурены: и личными и чужими, и внешними и внутренними. Твоею силою перестрой все это на лучшее: граждан и единоплеменников смягчая друг в отношении друга, нападающих же извне на подобие диких зверей, прогоняя».
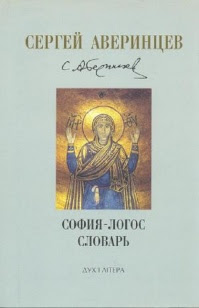
Неразличимость тварного и нетварного, слава обожения — это и есть «софийность», а софиология есть не что иное, как политология — об этом пишет выдающийся культуролог Сергей Аверинцев в своем классическом тексте «К уяснению смысла надписи над конхой центральной апсиды Софии Киевской»:
«Что, кроме улыбки, могут вызвать слова об «уходе из реального мира», якобы составляющем главный смысл Успения, если мы потрудимся припомнить византийский тропарь этого праздника, принятый и Русской Церковью: «во Успении мира не оставила еси, Богородице»?»
Связка теология/политология всегда присутствовала в софиологии, еще в Библии (библейские книги Премудрости), после — в византийской идеологии утверждает Аверинцев:
«В комплексе идей Ветхого Завета Премудрость определенным образом связана и с мыслью о священной державе, о богохранимом царстве: недаром главные «софиологические» книги, Книга Премудрости Соломоновой и Книга Притчей Соломоновых, связаны с почитаемым именем мудрейшего из царей. Священная держава с ее единомысленными подданными и правильными устоями человеческого общежития есть еще один образ упорядоченного человеческого космоса, заградительной стены против хаоса.
Такова библейская Премудрость — самораскрытие сокровенного трансцендентного Бога в строе природы, в строе человеческого коллектива и в строе индивидуальной человеческой «духовности».
Символ Софии оказывается особенно тесно связан с теми символическими образами, которые являли уму византийца идею просветленной плоти, просветленного человеческого естества. Таких образов следует назвать по крайней мере три: Богородица, Церковь и священная христианская держава.
[София — ] образ одухотворенного вещества, образ человеческой общности, воплощающей мировой смысл.
Выражая идею освящающей силы Бога, концентрическими кругами распространяющейся на мироздание, символ Софии сам как бы имеет структуру концентрических кругов. За Марией — средоточием «обновленного творения», за меньшим концентрическим кругом — Церковью, следует больший круг: все христианское человечество, устроенное как священная благочестивая держава. Это — момент, особенно важный для ранневизантийской идеологии эпохи императора Юстиниана, ведшего борьбу за объединение всей христианской «ойкумены» в просторном «доме» вселенской империи. Здесь на наших глазах утонченнейшие умозрительные построения и конкретнейшие политические интересы поистине сливаются воедино под знаком Софии, сопрягающей горнее и дольнее. Из этого ясно, почему освященный 12 декабря 537 года величайший из храмов Византии, призванный дать вещественное воплощение сокровенной идее Константинова града, был посвящен имени Софии: здесь София являет собой символ теократического принципа.
София — Мария — Церковь: это триединство говорило византийцу об одном и том же — о вознесении до Божества твари и плоти, о космическом освящении».
В итоге в последней глубине:
«Реальность, которую можно назвать софийной в наиболее точном смысле этого слова, т. е. ни чисто Божественная, ни чисто человеческая, ни Трансцендентность, ни имманентность сами по себе, но, если воспользоваться высказыванием великого английского поэта Уильяма Блейка, «божественный человеческий образ»: человеческое тело, преображенное, прославленное и обоженное «действием Благодати в Христовых святых», по определению 7-го Вселенского Собора. Именно так, ни больше, ни меньше».
По Аверинцеву, софиология как неразличимость тварного и нетварного сформулирована в «софиологических» книгах Библии, а не была придумана гностиками и каббалистами; она-то составляет смысл мариологии, и прицельно — праздника Успения; софиология — важная компонета византийского мировидения:
«Само по себе это существительное «Шекина», впоследствии столь важное для гностически окрашенной иудаистической и христианской Каббалы, само по себе «ничего специфически «каббалистического» или гностического не имело и совершенно непосредственно и органично рождалось из переводческо-интерпретаторской работы над Словом Божьим.
Реальность, которая с православной точки зрения может быть одновременно законно представлена и быть достойной этого, располагается точно в «софийных» пределах между имманентностью и Трансцендентностью, видимым и невидимым, естественным и сверхъестественным, творением и нетварной Благодатью, или, говоря точнее, там, где великая онтологическая граница пересекается и становится открытой благодаря событию Воплощения Христова. Мистическая концепция «Софии» содержит в себе как открытость творений перед Творцом, так и милость Творца к Своему творению, но и то, и другое — как единую и уникальную тайну».
Итак, софийность есть умная красота мира, божество-в-мире. Бог создал мир как умную красоту. В грехопадении она превращается в уродливое безумие («падшая София», «Шехина в изгнании», подчинение Евы Адаму). В Искуплении уродливое безумие падшего мира претворяется в спасенную умную красоту. Концепт софийности поэтому не предполагает специального от начала данного конкретного «носителя»; софийность — качество тех или иных реальностей. Софийно было Творение до грехопадения. Софийна Богородица как то творение Божье, Которое по чистоте своей смогло родить Бога (Новая Ева и слез Евиных избавление), и по Успении Своем — Царица Небесная. Софийны святые, как обоженные личности. Софийны Таинства, как «материализованная благодать». Софийна Церковь как Тело Христово и Жизнь Духа. Софиен прежде всего Христос как Богочеловек. Софию следует понять как концепт, качество: софийность; как художественный образ. Интересно, что слово «шехина» попало в греческий без перевода и молитву «Приди и вселися в ны» можно буквально перевести с греческого на русский «Приди и сотвори в нас свою Шехину». Присутствие Духа дарит реальности особое качество — софийность; но Духоносица по преимуществу — Приснодева.
Софийность в пределе — преображенная вселенная после Парусии, новое небо и новое земля. Но есть разные степени софийности. Мир создан потенциально софийным, чтобы стать актуально софийным, но он не предзаданно софиен (нет «мира-в-Боге», нет изнчальной, буквальной «души мира», нет «организма предвечных идей»). Софийность — режим бытия твари, а именно ее жизнь с Богом. Тварение — в множестве своих ипостасей — создано свободным, и она может и не быть софийной (не быть с Богом). Софийность есть обоженность, восславленноть тварности.
Но почему София — Вечная Женственность, откуда гендерная тема? Пол есть встреча различнейших сил: в поле встречаются природа и общество, личность и род, доличная творящая энергия бытия и личностная свобода и пр. и пр. Пол — как бы центр мира, состыковка всех его сил. И данная конфигурация пола, таким образом, есть конфигурация всех сил мира в данный момент. Пол — точка, где материя-тело переходит в душу-дух; неразличимость соматического и психического, родового и личного. Данное состояние мира есть грехопадение, мир во зле лежит. Данная конфигурация пола — фаллократия; логика проституции, поругания Софии — логика фаллократии. Следовательно, фаллократия есть гендерный режим грехопадения. Женственность угнетаема, насилуема, принижаема. Поэтому София, умная красота мира, попранная в грехопадении и грядущая в эсхатологическом восславлении есть угнетаемая женственность, отвергнутое девство. Падший мир есть мир попранной женственности, следовательно, спасенный мир есть мир восславленной женственности: Успение Приснодевы. Софиология тем самым есть тема преодоления фаллократии. Поскольку пол есть место состыковки всех сил мира, поскольку половое различие есть основное антропологическое различие, то грехопадение нигде не видно так явственно, как в области пола. Не свобода, а подчинение, не любовь, а насилие, и не вообще, а женщин мужчинами — вот что мы встречаем везде в истории, кроме общества, созданного двухтысячелетним чтением Евангелия — Запада с его феминизмом и равноправием. Об этом гендерном аспекте софио-марио-тео-логии писал Булгаков.

Великий философ и теолог протоиерей Сергий Булгаков создал трактат, посвященный православному почитанию Богоматери «Купина неопалимая» — это классическая книга современного православного богословия, ценная помимо всего прочего продумыванием сферы пола — теологией приснодевства:
«С Пятидесятницей дело Богоматеринства можно считать завершенным: лестница от земли к небу восстановлена, цель миротворения осуществлена, ибо явился совершенный, обоженный человек. Божия Матерь, лично безгрешная и очищенная от первородного греха, явилась выражением Приснодевства в твари, полным откровением Софии в человеке. Она не была освобождена от закона смерти, имеющего силу для всех потомков ветхого Адама: в смирении Своем Богоматерь не отверглась пройти общечеловеческий путь смерти, дабы освятить его.
Девство для Евы (вкупе с Адамом) было только состоянием, которое еще подлежало утверждению чрез испытание. Но его они утеряли после греха, впавши в плен пола. В Приснодеве это стало не только состоянием, но самым Ее естеством. Иначе говоря, будучи женским существом, Девой и Матерью, Приснодева не является женщиной в смысле пола.
Так же и Сын Ее, хотя имеющий мужеское естество, разумеется, также обладает совершеннейшим Приснодевством, не является мужчиной в смысле пола. Господь и Богоматерь, имея мужеское и женское естество, тем не менее пребывают свободны от пола, выше пола, приснодевственны. Напротив, пол, как состояние мужчины и женщины, обращенных друг к другу, есть удел всего греховного человеческого рода. Отсюда понятно, что единственный случай совершенно безгреховного приснодевственного рождения от Приснодевы мы имеем осуществляющимся в совершенном приснодевстве, т. е. бессеменном и безмужнем зачатии и девственном безболезненном рождестве».
И конкретно об Успении:
«Совершившееся Богоматеринство предполагает и прославление Богоматери, которым и является Ее Успение. Однако первое впечатление от этого события — не прославление, но некоторое уничижение: почему Богоматери, святейшей всей твари, суждено было вкусить смерть? Почему Та, Которая явилась воодушевленным Храмом, Престолом небес, оказалась повинна оброку смерти? Усопшая Богоматерь была пробуждена от успения Своим Сыном, Она была Им воскрешена и явилась, таким образом, первенцем воскрешения всей твари. Но это воскрешение лишь подтверждает силу и подлинность смерти. Успение Богоматери — это важно догматически усвоить — было истинной, настоящей, закономерной смертью, которой Она подлежала как человек.
В Ней и с Нею сам мир уже вкусил или предвкусил того воскресения, с приятием Которой он перестает быть «миром», в смысле отпадения от Бога и вражды к Богу, но снова становится миром-космосом, «добро зело», «новым небом и новой землею, в них же правда живет». Богоматерь в своем воскресшем и прославленном теле есть уже совершившаяся слава мира и его воскресение. С воскрешением и вознесением Богоматери мир завершен в своем творении, цель мира достигнута, «оправдися премудрость в чадах своих», ибо Богоматерь есть уже этот прославленный мир, который обожен и открыт приятию Божества. Мария есть сердце мира и духовное средоточие всего человечества, всей твари. Она есть уже совершенно и до конца обоженная тварь, богорождающая, богоносящая, богоприемлющая. Она, человек и творение, сидит на небесех с Сыном Своим, седящим одесную Отца. Она есть Небесе и Земли Царица, или, короче, Царица Небесная. Прославление Богоматери, возведение Ее из тварности как бы уже в сверхтварное состояние совершенного обожения, в достоинство Царицы Небесной, соответствует какому–то особому, для тварного греховного глаза почти совершенно незримому моменту или событию, также принадлежащему к Ее Успению, хотя уже лежащему за пределами земной жизни и самого этого мира. Это именно то, что символически в иконописи изображается как возложение короны, увенчание царским венцом Богоматери, мотив одинаково присущий как православию, так и католичеству. Словесно он выражен в именовании Богоматери Царицею Небесной, что есть, конечно, не только словесное украшение, но выражает собою некоторую действительность, духовную сущность.
Она есть уже прославленная тварь, ранее всеобщего ее воскресения и прославления, Она есть уже совершившееся Царство Славы, в то время, когда мир еще пребывает в «царстве благодати». Поэтому надо признать существенную принципиальную разницу между нынешним загробным состоянием прославленных святых, зрящих лице Божие, и славою Богоматери, ибо и святые не находятся еще в Царстве Славы.
Итак, в Успении Богоматери мы славим прославление человеческого естества. Последнее, быв воскрешено, обожено и вознесено одесную Отца, как плоть Сына, ныне прославляется и в себе самом, как таковое, в лице Пречистой Матери Его. Лествица, юже виде Иаков, осуществляется во всей полноте, ибо небо и земля воссоединились и стали едино.
Богоматерь есть Слава мира, мир, прославленный в Боге и у Бога и в себе имеющий и рождающий Бога. Нужно понять это во всей онтологической значимости, отдать себе полный богословский отчет в догматическом смысле почитания честнейшей Херувим и славнейшей без сравнения Серафим. В славе Богоматери открылась слава творения. Богоматерь есть личное явление Премудрости Божией, Софии».

Выдающийся постъюнгианский психолог Джеймс Хиллман провел некую деконструкцию психоанализа — его разборку-пересборку: от Юнга через Фрейда к романтикам, Шеллингу, Ренессансу, Фичино, алхимикам, Плотину, Платону, мифологии — психология как учение о «душе»: от (картезианского, модерного) эго-субъекта к Мировой Душе: психология в своей полноте, подлинности, сути есть психология Мировой Души; «сознание» есть лишь момент «психе», а «психе» есть лишь момент Мировой Души. Не душа существует во мне, не я обладатель души как некой собственности, принадлежности Эго; но я существую в душе; «Я» — аспект «Души». Психология (мышление о душе, мышление души) возвращается на свою истинную территорию — территорию духовности, религии.
Притом — это центральная мысль Хиллмана — мышление образами (воображение) есть верное определение психики как таковой: имагинация, а не дискурсия есть сущность психе. Психика состоит из образов, архетипов: психологическая работа есть работа с архетипами, архетипическими структурами, ситуациями, идеями-образами, следовательно, психотерапия по определению есть терапия идей: наше понимание-сознание, мировосприятие есть продукт бессознательного аппарата, состоящего из идей-образов: архетипы есть то, как и чем мы видим-понимаем реальность. «Психика» — это то, с помощью чего мы мыслим-воспринимаем реальность, а психика состоит из архетипов, образов-идей; следовательно, исцеление души проходит в ходе работы с образами-идеями. Одному случаю такой терапии идей посвящен текст «О паранойе».
«О паранойе» — текст, посвященный диагностике и возможным путям исцеления современного политического параноидального мышления. Параноидальность характеризует психику авторитарного, властного, насильственного, угнетающего, тиранического, милитаристского субъекта (как соответствующего индивида, так и соответствующего социума). И вот главное: параноидальность есть продукт подавления не-мужского-внутри-мужского, притом эту формулу вовсе не надо понимать буквально: «буквальное» понимание как раз есть само по себе симптом паранойи; паранойя симптомизируется как неспособность понимать тонкие, символические, аллегорические, метафорические, поэтические, мифологические, духовные и т. п. реалии: их «буквальное понимание» есть как раз их не-понимание, и вообще — поломка, болезнь понимания; параноик может помыслить истину только в форме факта, однозначности — то есть как позитивист или фундаменталист; истина же — та истина, что характеризует не «данные» «умных» машин, а понимание — всегда именно что не фактоидна, не однозначна; скажем перейти от святоотеческого понимания Священного Писания как бесконечного океана смыслов — смыслов притом нескольких разных типов (буквальный, моральный, типологический, тропологический, аллегорический, мистический…) к однозначному — Писание как набор однозначных претендуищих на истинность фактоидов «истинно» (фундаменталисты) или «не истинно» (позитивисты) — означает перейти к безумию, к слому аппаратов понимания, к болезни души-духа (представьте болезнь глаз, состоящую в переходе от объемного цветного зрения к двумерному чёрнобелому: так что объемность, многоцветность объявляется выдумкой, сказкой, ересью).
В формуле «параноидальность как продукт подавления не-мужского-в-мужском» имеется ввиду не определенное сексуальное поведение (его, как правило, вовсе нет: им бредит параноидальный субъект), а то, что как таковое авторитарным субъектом считывается: феминность/слабость/девство/скопчество — а в частности — анима, архетип души как таковой. Структура психики авторитарного субъекта функционирует как мужское/героическое/насильственное подавление-отбрасывание феминности/скопчества. Анима в юнгианской психологии — внутренний эффект мужского растления-проституирования-изнасилования женского, притом отношение к аниме есть принцип, согласно которому понимается отношение не только субъекта к своему внутреннему-отброшенному, но и вообще принцип всех оппозиций (небесного к земному, духовного к материальному, мужского к женскому, человека к миру, etc. etc.: культура власти, силы: культура изнасилования). Здесь — патологически скручиваются-переплетаются проблемы и силы психики, политики, религиозности. Таким образом, авторитарный субъект есть парадигмальный безумец, у него, строго говоря, повреждена сама «душа»: психоз/паранойя есть подавление скопчества/анимы, а невроз/истерия есть патологическое возвращение подавленного; параноик, авторитарный субъект есть безумец в собственном смысле слова, а невротики/истерички есть не понявшие себя, свою миссию пророки и пророчицы, криво, невнятно, темно выговаривавшие истину подавления.
Так Хиллман разбирает три классических случая психоза, все три имеющих, как выясняется, одинаковую структуру: бред собственного богоизбраничества (взрыв гордыни), сопровождаемый эксцессами агрессии и либидо (взрывы гнева, блуда, извращенной жестокости), подозрительности и страха, букет садизма, мазохизма, нарциссизма, перверсивности — в рамке буквалистского понимания своего бреда. Психоз есть личное проживание того безумия, каким охвачен социум в целом. Параноидален социум в целом, параноидальна психика людей данного социума в целом; в крайних случаях, в максимуме получаем клиническую паранойи; общая болезнь тут видна в своей крупной структуре. «Буквализм» паранойи исцеляется в мифичности/духовности понимания той истины, что пытается прорваться сквозь безумие, что блокируется буквализмом бреда: безумие (гордыня, гнев, блуд) исцеляется, когда удается аллегорически истолковать те образы и сюжеты, чье буквалистски-бредовое понимание и составляло безумие (поломку понимания). В частности, знаменитый случай Шребера есть именно случай прорыва истины о подавлении феминности/скопчества, о котором Юнг сказал: в Шребере прорывался догмат об Успении Приснодевы. Юнг считал, что провозглашение Римской Церковью догмата об Успении в 1950 году есть важнейшее событие в истории современной души.
Между прочим, Булгаков в упомянутом выше своем трактате 1926 г. писал:
«У католиков … имеется, насколько известно, проект догмата о воскрешении и вознесении Богоматери. … надо безоговорочно признать, что в проектируемом этом догмате по существу его, помимо возможной его формулировки, в которую, надо думать, будет принесена обычная доля латинского богословия, для православного сознания нет решительно ничего нового. Фактически православие содержит учение о воскрешении, вознесении на небо и небесном прославлении Богоматери (то, что соответствует в католической иконографии мотиву le couronnement de la Vierge [увенчания Девы], впрочем, нечуждому и православию). Все это и представляет собой содержание праздника Успения, насколько существо его раскрывается в литургическом его истолковании, как оно установляется чрез иконографию и богослужение, в данном случае являющихся единственным церковным источником для богословствования об этом предмете».
Классический казус протестантской теологии, о котором вспоминает и Хиллман: перед провозглашением папой Пием XII догмата об Успении Приснодевы выдающийся протестантский теолог П. Тиллих спрашивал у другого выдающегося протестантского теолога Р. Нибура: возможно ли такое провозглашение, на что тот отвечал: «я так не думаю, он [папа] слишком умен для этого, это было бы пощечиной всему современному миру, и делать это сегодня было бы опасно для Римской Церкви». Догмат был провозлашен. В том же трактате Булгаков писал:
«Ереси о Богоматери явились лишь в последнее время, первоначально в протестантизме, совершенно отвергнувшем почитание Богоматери. Это еретическое учение является причиной, а вместе и последствием искажения, обеднения, иссыхания христианского благочестия в протестантизме. В самом деле, какое глубокое и всестороннее изменение произошло бы во всей нашей религиозной жизни, если бы удалить из нее все те мысли, чувства, переживания, мироощущения, которые связаны с почитанием Богоматери, с живым, опытным знанием Богоматериного присутствия в мире. Христианство с одним Христом, но без Богоматери — это есть в сущности какая–то другая религия, чем Православие, и протестантизм отделяется от Церкви не частными своими лжеучениями и произвольными отсечениями, но прежде всего и существеннее всего своим нечувствием Богоматери. Как возникло и стало возможно в христианском мире такое нечувствие, это есть загадка и тайна протестантизма».
Догмат об Успении Приснодевы есть именно утверждение (утверждение на уровне архетипов, образов коллективного бессознательного) спасенности, обожения, вознесения, восславления феминности/девства («скопчества» как это воспринимается с «мужской» стороны). Коллективная психика европейского человечества модерной (протестантской, атеистической, капиталистической) эпохи, авторитарная, параноидальная психика — психика индустриализма, тоталитаризма, милитаризма — нуждается в исцелении, и это исцеление есть прекращение подавления феминности/скопчества, их восславление — это и есть догматика Успения, которая таким образом спасительна для современной политики, для современной коллективной психики. Догматика Успения есть ясная, чистая артикуляция истины девства, скопчества, феминности, софийности — не того истерического женского/не-мужского-в-мужском, что конструируется самим мужским как его противоположность-отброс, как то, что мужское отбросило, исказив, извратив из себя же, но того, что превозмогает, превосходит, исцеляет саму оппозицию параноидального/мужского и истерического/женского. Таким образом, провозглашение догмата Успения как нельзя более актуально, как нельзя более отвечает сути того, что происходит в коллективном бессознательном (пост)христианского человечества, всему тому сложному скруту, чьи всполохи столь специфично окрашивают позднюю современность (фиксация на разных аспектах в сфере пола); приснодевство; прославленная, обоженная, девственная женственность; догматика Успения. Христианство есть суть и истина истории; христианская догматика управляет всем происходящим; христианская теология содержала ответы на наши вопросы до того, как они вообще были заданы; они и были заданы в силу теологической сущности нашей истории.
Итак, София — образ, архетип души, анимы; мудрая (когнитивный аспект психики) Дева (гендерный аспект психики); целомудрие; психоанализ научил нас видеть важность сексуальности в психических феноменах — отсюда гендерный аспект: девство; но психика как таковая есть пространство мышления, понимания, сознания: мудрость. В падшем мире Мудрую Деву проституируют: растленная, обезумевшая Премудрость, Душа падшего мира; Логос спасает ее. Софиология должна быть, таким образом, понята не теологически, а психологически — с последующим осторожным связыванием с теологией. Притом в гностических софиологиях София предстает как блудница-истеричка, что симптомизируют неосвобожденность, загрязненность психики гностиков (анима еще понимается в перспективе мужской/не-скопческой/не-
«Сотворим нашу память хранилищем для Богоматери … если мы очистим память, то обретем Ее благодать обитающей в нас. … если мы со всей ревностью уклонимся от прежних пороков, а добродетели возлюбим всем сердцем и обретем их собеседниками, то Она, привлекая с Собой собрание всех благ, часто будет приходить к Своим служителям».

«Ответ Иову» — одна из главных работ Юнга, важная в понимании его взглядов на религию, психологию религии, историю и культуру иудеохристианского мира, политику, проблематику угнетения женщин и равноправия полов — важнейшая в понимании его взглядов на христианство: от его иудейских истоков до догмата Успения Приснодевы.
Для самой возможности адекватного понимания этой работы (независимо от её позитивной или негативной оценки, всей возможной критики) принципиально понять жанр её, метод в котором она исполнена. Образы, наполняющие сознание человеческого субъекта, создаются двумя автономными силами — обладателем сознания, субъектом — и силами сознанию трансцендентыми — силами по ту сторону сознания: бессознательным, наполненным архетипами. О природе этих последних психолог не делает заключений; он лишь фиксирует эффекты их работы в психике. Психолог описывает те или иные религиозные идеи и символы, архетипические образы и сюжеты — фиксируя в их генезисе и деятельности работу двух автономных сил — сознания субъекта и трансцендентного этому сознанию «икс»; архетипы суть боги, но о природе этих богов психолог не совершает суждений. Отсюда два вывода: психология не выступает ни за, ни против онтологической реальности референтов религиозных идей и образов; она работает с этими идеями и образами как с психологической реальностью. Таким образом атеисты не принуждаются к «вере» юнгианской психологией; и тем же самым — верующие не должны воспринимать юнгианские выкладки как теологические заявления. Если даже — но юнгианство так не утверждает, как не утверждает и обратного — трансцендентное «икс» есть онтологически реальная божественность, то из этого в любом случае никак не следует релевантность религиозных идей и образов этому «икс», ведь эти идеи и образы образуются не одним лишь «икс», но и сознанием человеческого субъекта. Поэтому юнгианские высказывания о «Боге» суть не теологические высказывания о Боге как таковом, а психологические высказывания о образе Бога как он (образ) эволюционирует, функционирует в сознании человеческого субъекта.
«Ответ Иову» — не теологическое исследование, а психологическое: это надо непременно иметь ввиду при его чтении; что здесь кажется «богохульством» или «ересью» ими не является по определению. Юнг прямо все это прописывает и усиливает: он фиксирует «субъективную реакцию» на библейские тексты, он «платит несправедливостью на несправедливость», «аффектом на аффект»: как психолог он воспроизводит психологическую реакцию читателя на мощное психологическое воздействие библейских текстов (образов, идей). Юнг — авторский голос «Ответа Иову» — играет собственно роль Иова: личное, эмоциональное, часто возмущенное или насмешливое, в общем — глубоко «задетое» высказывание о образе Бога в его иудеохристианской истории: то есть собственно психология субъекта иудеохристианской культуры во всем спектре чувств и реакций. Итак — не теология, не высказывание о трансцендентной реальности Бога, а психология, исследование эволюции образа «Бога» в иудеохристианском сознании. На самом деле тут объяснение многому в «Ответе Иову»: с одной стороны это попытка реконструкции эволюции иудеохристианского сознания, с другой — фиксация его современного состояния: ведь Юнг фиксирует свою «субъективную реакцию» — европейца пер. пол. XX в., и это слишком видно: комментируется не столько Ветхий Завет сколько протестантское его понимание, не столько Новый Завет сколько юридическая теория искупления и т. п.
Как после него Лакан в «Психозах», Юнг в «Ответе Иову» четко разграничивает психологическую природу библейского образа Бога от психологической природы Зевса. Зевс — «личина, а не личность», он — воплощение мирового порядка; тогда как библейский Бог бросает «личный вызов» своим адептам — своей подчеркнутой праведностью при вопиющей вседозволенности — налаживанием между человеком и Богом «интенсивного личного отношения». Вся диалектика, вся драма, описываемая в «Ответе Иову» возможна в силу личностности библейского образа Бога.
Именно личностность, требование «Бога» (здесь и далее закавычиваем, имя ввиду жизнь образов в религиозной психологии, а не теологические концепты) личностной любви к нему делает невыносимой ситуацию его имморальной вседозволенности, его яростности, гневности, мстительности, требовательности и пр. Психологически можно признать и принять всемогущую имморальную вседозволенность, но нельзя ее любить и признать моральной, праведной — но именно такова ситуация библейского богочувствия по Юнгу.
Книга Иова посвящена этой невыносимой ситуации. Страдающий праведник Иов раскалывает образ Бога: ничтожный «червь» Иов оказывается праведней всемогущего «Господа». Бессильный ничтожный Иов оказывается «сильней» всемогущего «Бога» — не «силой» — её нет никакой у Иова, а правотой — правдой-справедливостью (моральным сознанием, отсутствующим у «Бога») и правдой-истиной (рефлексией, отсутствующей у «Бога»): «сильней» смыслами и ценностями, а психология ведь и есть область смыслов и ценностей: в психологической плоскости Иов оказывается выше «Бога» (сознание и мораль человека опередили его богочувствие — его «Бога»); испытание праведности человека оказывается испытанием праведности «Бога» и тот его проваливает. Иов раскалывает «Бога», ведет распрю с ним — с его всмеогущим имморализмом — с опорой на его же праведность. «Божественная тотальность» подвергается отрицанию ничтожностью Иова — его сомнением в «Боге» и моральным негодованием им. Здесь запускается диалектический процесс, описываемый Юнгом в выражениях, взятых будто бы из гегелианолаканианомарксистских текстов:
«невыносимое противоречие в самой сути Божества», «раскол и мука внутри Божества», «тотальная внутренняя противоречивость, выступающая необходимым условием его чудовищного динамизма», «в силу своей ничтожности, слабости и беззащитности перед могуществом Всевышнего человек обладает несколько более острым сознанием на базе саморефлексии, чтобы выстоять он постоянно должен осознавать свое бессилие перед всемогуществом Бога», который «не сталкивается с непреодолимыми препятствиями, которые побуждали бы его к колебаниям, а значит к саморефлексии», «сам Яхве и есть тот, кто омрачает собственное Провидение и не обнаруживает никакого понимания; он так сказать получает рикошетом свой же удар, порицая Иова за то, что сам же и делает: человеку не должно быть позволено иметь о нем свое мнение, а особенно понимание, которым сам Бог не обладает», «человек несмотря на свое бессилие возвышается до суда над Божеством», Бог «произносит приговор над самим собой», «монотеистическому понятию Бога грозит катастрофа», «Яхве должен дать себе отчет в своем абсолютном знании», «любая противоположность — в Боге, а потому человек должен взваливать противоположности на себя; если он так и поступает, то это значит, что Бог завладел им во всей своей противоречивости, т. е. воплотился; человек преисполняется божественного конфликта; мы по праву связываем идею страдания с состоянием, в котором противоположности мучительным образом сшибаются лбами, но боимся признать подобное переживание спасенностью. … почему именно этот неизбежный эффект психологии христианства должен означать спасение, уразуметь было бы трудно, если бы не то обстоятельство, что как раз процесс осознания противоположностей, сколь бы болезненным ни был момент его постижения, ведет за собой непосредственное ощущение спасенности. … именно в самом предельном и роковом конфликте христианин испытывает чувство божественного спасения» и т. д. и т. п.
Психоаналитическая диалектика Юнга — намеченная до сведения Лаканом и Люблянской школой Гегеля и Фрейда в одно теоретическое предприятие — диалектика которая итожит долгий путь теологической диалектики Бёме и Экхарта, Гегеля и Шеллинга — эта диалектика — как и вообще сравнение Юнга с Люблянской школой — ведь Юнг, как и основанная им традиция в целом, никогда не боялась психоаналитических интервенций в области политики, идеологии и т. п., при острейшем интересе к теологии — а все это (синтез диалектики гегелева типа, фрейдизма, теологии, и добавим структурализма, ведь архетипический подход есть подход прототруктуралистский — при структуралистском же внимании к архаике) — заслуживает отдельного разбора (призрак юнгомарксизма) — но тут нет места этому.
«Упадок античных богов», пишет Юнг, был предрешен возросшим «критическим суждением» человеческого субъекта, появлением «высокоразвитого сознания», которое уже не могли устроить «слишком человеческие проявления богов». Такая же судьба грозила и библейскому богочувствию — но был в нем, как оказалось, ресурс который не только предотвратил его упадок, но и позволил эволюционировать до состояния вытеснения античной религиозности и становления мировой религией.
Библейский «Бог» — воплощение патриархальности, агрессии, «сверхчеловеческого насилия», ничем не сдерживаемой власти, угнетения женского и пр. и пр. — он относится к избранному им народу как муж к жене в патриархальном браке (чему не мало посвящено места в самой Библии). В момент истины Иова этот образ предстает во всей своей неприглядности, терпит крушение и на сцену выходит София.
Библейские книги Премудрости (Софии) являют возвращение вытесненной, угнетенной ранее женственности — скрытой ранее Премудрости Божией. Образ «Бога» как патриархального мужа-ревнителя, подозревающего жену-Израиль в неверности, блуде трансформируется в Софию, Божественную Мудрую Деву. В бессознательном, нерефлективном состоянии просто не замечается вопиющая противоречивость требующего личной верности и признания своей праведности субъекта сверхчеловеческого насилия — патриархального «Бога»: но вот начинается процесс рефлексии — и этот патриархальный субъект трансформируется в Софию.
Здесь можно видеть еще одну лакановскую (до Лакана) черту юнгианства. В Господском дискурсе, как известно, знание находится на стороне раба: Господин ничего не знает, он рефлексии, (само)познания лишен. Поскольку Юнг ведет речь о процессе рефлексии в библейском богочувствии, постольку появление Софии — Мудрости — можно трактовать как сдвиг Господского дискурса на один такт против часовой стрелки, где место Господина занимает раб/знание — т. е. как появление дискурса Университетского (скажем, позиция иудейского книжника).
Однако, поскольку речь идет и о некоем моральном негодовании Господином, о некоторой женской претензии к нему, постольку появление Софии — Женственности — можно трактовать как сдвиг Господского дискурса на один так по часовой стрелке — где место Господина занимает перечеркнутый субъект — т .е. как появление дискурса Истерического (скажем, позиция иудейского праведника).
Софиология получается совмещает два разнонаправленных дискурсивных движения? — Если сдвинуть каждый из дискурсов получившихся сдвигом дискурса Господского на еще один такт — и каждый в том же направлении — они оба дадут, как известно, один и тот же дискурс — дискурс Аналитический (дискурс психоаналитика). Софиологический дискурс, как удержание вместе и «интеллектуальных и моральных способностей» вместе, как произведенный и процессом рефлексии библейского богочувствия и процессом морально негодующего разбирательства с «Богом», как и продукт процесса познания и продукт высвобождения угнетенного женского — не полная ли противоположность дискурса Господского, не Аналитический ли дискурс? Так или иначе: рефлексия раннее бессознательного «Бога» производит божественную Мудрость, т. е. Софию, а морально негодующее разбирательство с «Богом» высвобождает в нем Женственность, т. е. Софию же; незнающее себя могущество — угнетенная женственность-праведность: двуединый антогонизм и двуединое его разрешение в мудрости-девстве; критическое сознание движет преодолением бессознательности — моральное сознание движет преодолением насилия. София готова родит Божьего Сына-Логоса, вочеловечить «Бога» — очеловечить его.
Одновременно с иудейской софиологией появляется и иудейская апокалиптика. Бессознательное «Бога» — иудейское богочувствие, иудейское коллективное бессознательное — встревожено случаем с Иовым, и начинает продуцировать разного рода видения, сны, откровения. В них — у Иезекииля, Даниила, Еноха — говорится о том, как страдающий праведник ангелизируется, возносится на небо; одновременно с чем «Бог» окружается ангелами как символами своей пробудившейся рефлексивности и моральности — в каковых зреет идея-образ Мессии, Сына Человеческого/Божьего — вочеловечивания «Бога» — становления «Бога» страдающим праведником — той фигурой, что завела тяжбу с «Богом».
Уготовляется новое творение, новое начало — притом приоритет на сей раз будет у «новой Евы», чья «независимость от мужчины подчеркнута принципиальным девством». Девство есть торжество высвобожденной из угнетения женственности.
Женская, моральная, мудрая сторона Бога констеллируется в ансамбль София/Дева/Мария/Руах/Дух/Параклет/Логос/Мессия/Спаситель/Cын/Жертва-Праведник — в ансамбль, где образ Бога должен окончательно трансформироваться: образ сверхчеловеческого насилия должен смениться образом любви — образ Отца образом Сына. Мать-Невеста-Дева должна от Духа родить Спасителя-Сына-Логос — на которого изольется гнев Отца; спасение есть спасение от гнева Бога; Бог, приносящий себя в жертву во искупление своей неправды перед людьми, своей жестокости и пр., самопреодолевает себя во Христе — на моральное и рефлексивное превосходство Иова над «Богом», тот отвечает интроекцией его судьбы: «Яхве должен был стать человеком, ибо причинил ему несправедливость … неправое дело [«Бога»] должно быть искуплено … заглаживание несправедливости причиненной Богом человеку»; в момент Распятия, богооставленности Иисуса его «человеческая природа» — именно в этот момент! — «достигает божественности — это происходит в тот момент, когда Бог переживает бытие смертного человека и на себе узнает то, что он заставил претерпеть Иова»; — таков подлинный ответ Иову (и тут — в теме Иова, самопреодоления Бога как Большого Другого в Распятии — опять находим типические темы Люблянской школы).
За тем, что кажется «богохульством» и «ересью» в «Ответе Иову» легко не заметить насколько в сущности теологически тривиальные вещи составляют книгу Юнга: каков подлинный ответ Иову? — любой ортодоксальный теолог, любой проповедник скажет: страдания Сына Божьего. В ответ на страдания праведника Бог сам становится страдающим праведником: Юнг психологически это фиксирует в образе: Бог на Кресте искупает свою же неправоту, избывает собственный гнев и пр. и пр.: то есть эти черты психологического образа Бога устраняются и синтезируется высший образ Бога — Бога-Любви и т. д. Просто-напросто подлинный ответ Иову — абсолютная любовь Бога, явленная во Христе.
Таким образом в Рождении, Распятии, Воскресении и Вознесении Иисуса достигается полная трансформация образа Бога — «Бога» не патологического и бессознательного как на старте, а представляющего здоровое моральное рефлексивное примирение противоположностей — праведности и любви, человеческого и божественного и пр. и пр. — и задается архетип высшего проявления индивидуации, интеграции души, достижения целостности/самости и пр. — совершенного состояния психики — но лишь в одном человеке — в Иисусе. («Христос «предохраняет человечество от утраты общности с Богом и от скатывания в одностороннее сознание с его «разумностью». Эти процессы были бы равнозначны не более и не менее как диссоциации сознания и бессознательного и, таким образом, неестественному, т. е. патологическому состоянию, так называемой «бездушности», которая постоянно грозит человеку с древнейших времён. Всё снова и всё сильнее он опасно игнорирует иррациональные данности и потребности своей психики, воображая, будто воля и разум дают ему всевластие и тем самым деля шкуру неубитого медведя, что отчетливее всего проявляется в таких великих социально-политических претензиях, как национал-социализм.»)
Иисус посылает Параклета, чтобы то чему первенцем он был стало достоянием всего человеческого множества: отрывается христианский эон. Что произошло с Иисусом, то должно произойти со всеми. Вслед Торе и Псалтири, Иову, софиологической литературе и иудейской апокалиптике, Евангелиям и апостольским посланиям — Юнг начинает читать Откровение Иоанна. Тут — в Апокалипсисе — разыгрывается та же драма, но во вселенском, всечеловеческом масштабе: снова Жена рождает Младенца — но и снова разыгрывается божественное «сверхчеловеческое насилие».
Христианский эон, то есть современность. Сверхчеловеческое, апокалиптическое насилие готовое уничтожить мир — ядерное оружие. Но в ответ этому насилию — возвращаемая из патриархального угнетения женственность: как моральное негодованием насилием, как процесс понимания его безумия. Борьба с ядерными оружием и борьба за равноправие полов Юнгом видятся как одна борьба, или: ядерный кризис симптоматизиует тоже самое, что симптоматизирует распад патриархата.
И вот самое интересное — то, к чему ведет вся драматургия «Ответа Иову»: провозглашение Римской Церковью догмата Успения Приснодевы есть исцеление того, что симптоматизируется в ядерном кризисе и кризисе патриархата — психологическое торжество борьбы с ядерным оружием и борьбы за равноправие. На весь мир провозглашенная истина того, что Приснодева воскрешена, вознесена и воцарилась на Небесах — эта истина есть именно то, чего жаждет современное человечество: полная реабилитация женственности — и полное развенчание того, что угнетало ее — насилия. Успение Приснодевы и есть полный, окончательный ответ Иову: полное устранение патриархального насилия из образа Бога — торжество Приснодевства. В ответ на ужас тоталитаризмов и мировых войн — в ответ на угрозу ядерной войны — догмат Успения. Две линии, единые у Бёме и разделенные после — диалектика и софиология — тут сходятся и складываются в единый узор: по Бёме темное пламя ярости захлестнуло некогда свет и Адам потерял Деву, так что спасение есть обретение Девы; происходит трансформация архетипа «Бога»: темная ярость просветляется и умиряется вплоть до обожения и восславления тварности/человечности/женственности: Дева.
Итак, «Ответ Иову» описывает «трансформацию архетипа Бога/Самости» — из низкого бессознательного в высшее просветленное, их стихийного патологического сочетания противоположностей — в сочетание противоположностей как их гармонию, полноту. Наша задача состояла не в пересказе «Ответа Иову»; но все же один упущенный аспект надо под конец затронуть: как происходит интеграция Тени в Самость, в данном случае — «сатаны» в «Бога»? — в «Ответе Иову», как и в лекциях «Психология и религия» ответ двоится; в последних он кажется все же ясней: «четверица», а не «троица» — психологически верный образ Бога — Самости; кто же четвертый? — как будто бы «сатана» — тот четвертый, что не признается Церковью; но тут же и сразу же Юнг дает другой ответ: четвертый — «человек», который обоживается через единосущие по человечеству со Христом, единосущного по божественности с Отцом: этот чисто ортодоксально-христианский, классически церковный ответ Юнг почему-то называет «ересью» (еще почему-то «гностической»: религиоведчески тут Юнг попадает в молоко); однако, опять-таки тут же и сразу же Юнг дает и еще один ответ кто же недостающий «четвертый» в «Троице» — и эта версия совпадет с драматургией «Ответа Иову»: «женский элемент» — Дева, входит четвертой в «Бога»: бессознательное/материя/телесность/земля/человеческое/женское/смертное/падшее — эта констелляция в непростветленном, в неспасенном, в не обоженном (т. е. буквально не вошедшей в божественность) состоянии, представленная как зло/«сатана» — в состоянии спасения/обожении/славе предстает как Приснодева-Богоматерь; «женщина как и зло исключена из Божества»: «сатана» есть симптом — собственного говоря символ грехопадения; Успение Приснодевы есть излечение этого всесветного невроза, этого невроза мировой души: первообразец спасения, обожения и восславление падшего творения, падшего человечества — и в их наиболее невротизированных аспектах — телесности, женственности.
[Заметки на полях. Задачей этого текста никак не является реконструкция взглядов Юнга на христианство; все же один еще аспект во избежание недоразумений надо вероятно прояснить. «Эон» Юнга посвящен аналитике образа «Христа» как символа Самости. Самость же — сочетание противоположностей; и тут Юнгу кажется, что «Христос» — плохой символ Самости, не интегрирующий Тень, что патологический компенсируется образом антихриста — инверсия «Христа» в «антихриста» в конце «христианского эона». Символ Самости, аргументирует Юнг, коль скоро она интегрирует все противоположности, должна интегрировать и противоположности добра и зла — чего в христианстве не происходит. Проблема здесь, однако, чисто диалектическая; Юнг попадает в логическую ошибку: пусть «зло» — диалектическая противоположность добра, долженствующая интегрироваться с ним в Самости; в таком случае что нам делать с тем злом-2, которое исцеляет юнгианская терапия — т. е. строго говоря первичным с терапевтической точки зрения злом — злом нарушения сочетания противоположностей, которое патологически компенсируется в неврозе и пр.? — злом, скажем так, чисто диалектическим, злом дурного проведения диалектики – психологической в случае Юнга? Диалектически — и психоаналитически, терапевтически — зло есть нарушение гармонии сочетания противоположностей, а следовательно зло не является одной из противоположностей, а следовательно несмотря на всю массивную критику Юнгом теологии первичности и достаточности добра при понимании зла как недостатка добра эта теология имеет именно что психологическую, терапевтическую истинность. Практически психоаналитику — в психоаналитической практике, а не в метафизических спекуляциях — следует квалифицировать невроз как компенсацию некоторой дисгармонии противоположностей — и помочь анализанту гармонизировать противоположности (сознания и бессознательного, интеллектуальной и ценностной функций, мужского и женского и пр. и пр.) — достичь интеграции в Самость. Итак, чисто психоаналитически есть зло дисгармонии противоположностей (неврозы и пр.) и добро (здоровье, интеграция) сочетания противоположностей; очевидно что гармония дисгармонии и гармонии — нелепость; нелепость, проистекающая из нелепости одновременного расположения зла на двух разных уровнях — зла-1 как диалектической пары к добру и зла-2 как дисгармонического сочетания противоположностей.
Это и вообще частая ошибка в диалектике. «Антагонизм» и т. п. вовсе не необходимая черта диалектики; можно доказать обратное: антагонистичность, конфликтность есть дурная диалектика, где противоположностям не удается расцвести в полноту, реализовать все свои потенции. Есть диалектика, скажем, мужского и женского: и все же антагонизм их — проституция, семейное насилие, изнасилования и пр. и пр. — никак нельзя считать, удачной формой сочетания противоположностей полов: очевидно, что здесь одна сторона патологична, другая фрустрирована; так, скажем, безумие вряд ли можно считать здоровой формой сочетания противоположностей сознания и бессознательного — здоровой тут формой все же будет выздоровление от безумия; так и со всеми противоположностями (физиологические и психологические нарушения мешают ориентироваться в противоположностях правого и левого, верхнего и нижнего, теплого и холодного, четного и нечетного; угасание солнца упразднило бы противоположность дня и ночи; и пр. и пр. — совершенно бессмысленно говорить о антагонизме, борьбе этих противоположностей, составляющих гармоническое целое, где одна противоположность немыслима без другой). Невроз не имеет себе диалектической противоположности: он есть проявление диалектического сбоя в отношениях противоположностей психики; антагонизм — симптом дисгармонии, то есть патологии одной противоположности и фрустрации другой; он движет диалектическое развитие в том специфически психоаналитическом смысле, в каком невроз движет психическое развитие: взывает о радикальном преобразовании ситуации. Интенсивное, максимальное напряжение, противопоставление, различение противоположностей есть их мир, гармония — их обоюдное добро, взаиморазвитие, взаимоусиление различий, их «примирение и уравнивание» по Юнгу, где каждое служит другому «отрицанием», обратным насилию, обездвиживанию, убиению — «отрицанием»-обновлением, выявляющим «отрицанием»-контрастом: не насилием, не борьбой взаимоопределяют себя зимняя темная ночь и летний солнечный день; не антагонизмом, не конфликтом являет себя бытие в четверице мира и земли, бессмертных и людей. Итак, зло как в логическом так и в психоаналитическом смысле есть дурная диалектика, где взаимоопределение, соотнесение, противопоставление противоположностей срывается в насилии, антагонистичности; понимать диалектику через антагонизм, насилие это уже пато-логия, болезнь ума, подлежащая психоанализу. В диалектике верно проведенной, не сорванной какой-либо патологией, паранойей и пр. ошибками в диалектической логике, противоположности доведены до предела, где каждая максимально интенсивно, ярко являет свою особость как особенное добро, специфическое благо — на контрасте с другим, по своему особым добром, по своему специфическим благом (в скобках: такие творцы ортодоксии как Ниссиец, Максим — великие диалектики в строго гегелевском смысле).
И именно в христологии — вопреки Юнгу — мы встречаем верно проведенную диалектику противоположностей. Христос есть именно — юнгиански выражаясь — совершенный образ Самости, поскольку Он есть сочетание всех противоположностей: Христос вмещает в себя все «темные» их полюса — тварное, материальное, земное, человеческое, страдающее, смертное и пр. — и именно поэтому Он полностью свободен от зла, греха (дисгармонии противоположностей), поэтому Он побеждает смерть и ад; «теневые» аспекты полностью и совершенно интегрируются; достигается диалектика совершенства и полноты нераздельных и неслиянных противоположностей — божественного и человеческого, нетварного и тварного и пр.; ортодоксальная христология есть высшая диалектика и в чисто логическом и в психологическом смыслах.
Интересно, что эта христианская диалектика вполне работает в текстах Юнга, в самой их драматургии: Юнг говорит про «сатану» и «антихриста» как Теней «Бога» и «Христа»; однако же в итоге он описывает христианский вариант интеграции Самости не как некое (невозможное) вхождение «сатаны» в «Бога», некое (невозможное) сочетание «Христа» и «антихриста» — а как Успение, как воскрешение, обожение и восславление Приснодевы-Богоматери. Зло — «сатана» — Христом побеждено, интеграция Самости достигнута, что теперь открыто всему падшему творению: Успение именно и фиксирует момент спасенности, обоженности, славы некогда подверженного первородному греху творения. Тут достигнуто сочетание противоположностей — а кто знаком с византийской мариологией, знает, что она вся выстроена именно как яркая диалектика противоположностей — и значит зло — зло в психотерапевтическом смысле дисгармонии противоположностей с ее невротическими и пр. патологическими компенсациями — преодолено. Интересно, что «Эон» — работа Юнга, лишенная мариологической компоненты, как раз и наиболее симптоматизирует пристрастие Юнга к «интеграции зла», «гностицизму», астрологически-протоньюэйджеровского бреду (психологический термин) и пр. — проявляет очевидные признаки некоторого интеллектуального, морального и вкусового неблагополучия; здесь Успение как бы не произошло и весь дискурс распадается в нечто непотребное (например, цитаты из гностических текстов, приводимых Юнгом как образцы интеграции Самости, явно и недвусмысленно отождествляют женственность со злом и т. п.: крайне сомнительная интеграция — в отличие от Успения); характернейшим образом Юнг в «Эоне» (публ. 1951 г.) упоминает «опасную тенденцию практически прекращенных дискуссий по поводу догмы … угасания символа, если не его полного исчезновения», делая оговорку о «последних папских декларациях»: эти-ти последние встанут в центре «Ответа Иову» (публ. 1954 г.), где окажется, что провозглашенный папой Пием XII догмат Успения Приснодевы есть «обновление надежды на исполнение глубочайшего чаяния души – примирения и уравнивания противоположностей»: Успение, а не юнговские спекуляции про интеграцию «сатаны/антихриста»!]
[И пока мы еще находимся на полях – ещё кое-что о Юнге. В «Очерках о современных событиях» Юнг пишет о войне, тоталитаризме и др. эпохальных событиях и процессах первой половине XX века с точки зрения разработанной Юнгом вариации психоанализа. Отметим несколько вещей.
Как правило фрейдизм привлекается левыми политическими теориями в качество своего психологического дополнения; юнгианство же считывается — опять же как правило — как реакция, откат, регресс от неудобных, травмирующих открытий Фрейда; интересно, однако, в любом случае, что юнгианский психоанализ сам непосредственно предпринимал мощные экспансии в социально-политическое пространство — и вполне радикального, критического толка.
Скажем, в классической работе «Один современный миф» (о психологическом значении «НЛО») Юнг предлагает социологию снов: следует собирать сны многих людей в единый массив данных, выделять в нем общие символы, сюжеты и пр. — и анализировать это общее уже как симптоматику некоторых социальных процессов.
Так и в целом, Юнг видит прямой путь от индивидуальной к коллективной психика: коллектив, массы, общества, народы состоят из людей, то есть индивидуальных психик; то общее, что у них есть — есть уже собственно общественное, то есть социальный факт, нечто выходящее за пределы индивидуального и составляющее уже социальную реальность; то есть, исследуя общее индивидуальных психик психоаналитик исследует социальные факты, то есть не переставая быть психологом становится социологом.
Психолог может заметить новую динамику в общественных процессах, то есть зарегистрировать «современность». Юнг приводит пример: сельская жизнь не меняется веками: соответственно и психика сельского жителя мало изменилась за тысячелетия; специфически «современные события» — те, что меняют истории, те, что производят некоторую эпохальную новизну — происходят иначе: Юнг приводит два весьма характерных примера: рабы две тысячи лет назад продуцировали некоторый психический процесс, который в итоге стал одним из основных событий мировой истории — христианство: рабы и заражаемые от них господа в крупных городах были очагами того процесса; другой пример: схожий с тем, что происходил в психике рабов две тысячи лет назад процесс происходит сейчас с женщинами — женщинами крупных городов и заражаемых от них мужчин. Интересна здесь локализация «современности» и «современных событий» — это не хронологический параметр, а социально-психологический — интересны и примеры: христианство/рабы, феминизм/женщины. Это конечно только иллюстрации юнговской коллективной психологии, а никак не описание ее методов и результатов.
Итак: индивидуальные психики складывают общественные процессы. Динамика же индивидуальной психики вовсе по Юнгу не сводится к играм с сексуальностью. Он совершает коррекцию фрейдизма: инфантильная сексуальность может быть симптомом (а не причиной!) неудачной социальной адаптации; все современные пляски вокруг сексуальности могут быть симптоматикой неврозов, а не их истоком и объяснением (это касается и обслуживающих инфантильную сексуальность теоретических предприятий— классического фрейдизма и др.). Социальная дезадаптация — не следствие/симптом «подавленной сексуальности» того или иного вида, а того или иного вида возня со своей сексуальностью — симптом социальной дезадаптации. Само по себе это кажется чрезвычайно важной поправкой к психоанализу — имея ввиду как много «сексуальность» во всех модификациях занимает места в современной душе: это очевидный симптом. Однако, психологическая диалектика инфантильной сексуальности и социальной адаптации — лишь верхний слой. Юнг пишет:
«Религиозная деятельность куда сильнее подавлена в современном человека нежели сексуальная активность или социальная приспособляемость».
Подавлена в современном человеке — религиозность, то есть самое самость его. Подавляется не сексуальность, а религиозность, самость; между прочим интерес современного человека к психологии с одной стороны и оккультизму с другой — симптом этого подавления религиозности. Современный человек — атомизированный — оторванный и от других и от собственной глубины — субъект — пылинка индустриализированных урбанизированных масс, образующих чудовищные социальные штормы, ураганы. Этот субъект — такой современный, такой образованный, такой ни во что не верящий, которого за нос не проведешь и пр. и пр. — житель современных мегаполисов — этот-то субъект и есть субъект мировых войн и тоталитаризмов. Мировые войны и тоталитаризмы — патологические гиперкомпенсации его атомизации и обездушивания.
Исследование снов и пр. психических процессов людей, вернувшихся с Первой мировой войны, пишет Юнг, привело его — еще до формирования нацизма — к гипотезе: христианство — в коллективной душе Европы, некогда христианского мира — рухнуло; вернувшиеся из мировой бойни — те, что скоро устроят новую — они одержимы Вотаном. Дехристианизированный субъект современности — субъект одержимый. Юнг и описывает тоталитаризмы и мировые войны как эпидемии одержимости: политическая демонология. Нацизм есть массовая одержимость Вотаном.
Невроз есть автономный, действующий независимо от сознания невротика, психический комплекс: это ровно то, пишет Юнг, что раннее называлось «демоном». Демонология и есть психоанализ; психоанализ и есть демонология. Соответственно психоанализ социально-политической событий и процессов, общественной жизни есть политическая демонология. Психотерапевт же есть экзорцист.
Характерным образом Юнг пишет, что христианство есть рождение индивидуальной души (архаический человек имеет только коллективную душу); душа есть по генезису своему — христианка; тоталитаризм же есть одержание ослабевшей больной индивидуальной души коллективной динамикой, вернувшимися коллективными архетипами, что ведь по Юнгу есть напрямик симптом безумия; юнгианская терапия работает с архетипами, указывая притом, на их амбивалентность; но как работает? — терапия как раз за тем и нужна, чтобы реализовать благие стороны архетипа и купировать разрушительные; иначе как раз душу одерживает архетип в темной своей форме.
В общем: предпосылка мировых войн и тоталитаризмов — ослабление христианства; суть мировых войн и тоталитаризмов — эпидемии демоноодержимости. Юнг пишет буквально так.
Заканчивается серия очерков о мировых войнах и тоталитаризмах упоминанием атомного оружия. Интересно, что в «Ответе Иову», темы, которые в этих очерках рядоположены, но не соединены, сходятся: феминизм, восстание подавленной женственности в «Ответе Иову» понимается как компенсация-исцеление того мужского, что явило себя в мировых войнах и тоталитаризмах и что грозит миру ядерным пожаром; и финальная психологическая/религиозная форма этого исцеления — провозглашение Католической церковью догмата о Успении Приснодевы-Богоматери Марии: именно Успение являет ту спасенную/обоженную/восславленную женственность — высшую, совершенную форму самости — что необходима человечеству для предотвращения новой мировой войны, чреватой ядерным концом мира.]
Итак, Юнг толкует догматическое дело Пия XII софиологически (провозглашение догмата Успения). Как тут не вспомнить православного софиолога Булгакова (Юнг впроброс упоминает его основные темы — творение мира из ничего в смысле Божества, притом по извечно составляющим Божественную Софию образцам; ангелология, апокалиптика, собственно софиология, мариология) — и притом, что только в одном Юнг критикует папскую мариологию: догмат Непорочного Зачатия Приснодевы кажется ему отграничивающим Приснодеву от падшего человечества, а тем ставящим под удар основной догмат вочеловечивании Бога и спасение через то падшего человечества — так именно критиковал этот догмат и Булгаков.
Юнг специально оговаривает: конечно, догмат Успения известен со Средних веков; но официальное торжественное провозглашение его, догматическое закрепление его есть важнейшее религиозное событие иудеохристианского мира со времен Реформации — событие, психологически разрешающее основные проблемы современности, где коллективная психология находит свое исцеление: так он как будто бы отвечает на булгаковскую критику зачем-де провозглашать как новый догмат, то что было вполне оформленным верованием уже древней церкви.
Так или иначе, догматика Успения как именно то, что нужно современному человечеству — в этом сходятся выходец из протестантизма Юнг, православный софиолог Булгаков и папа Римский Пий XII — независимо друг от друга.
Психологическая истинность и целительность веры в Успение Приснодевы — таков неожиданный плод психоаналитического предприятия.
Несколько цитат из «Ответа Иову»:
«Догмат вознесения Девы Марии я считаю важнейшим религиозным событием со времён Реформации. … Этот догмат своевременен во всех отношениях. … Теперь всё зависит от человека: чудовищная сила разрушения находится в его руках [ядерное оружие и пр.], и вопрос только в том, сумеет ли он устоять перед искушением употребить её, сумеет ли обуздать её духом любви и мудрости [София, Приснодева Мария]. Вряд ли он сможет сделать это самостоятельно. Ему нужен «заступник» в небесах» [Бог-Сын, Сын Приснодевы].»
«Что Богоматерь там и пребывает [в небесной славе], считается, правда, делом решённым вот уже более тысячи лет, а что София была с Богом ещё до творения, мы знаем из Ветхого Завета. … Но во времени истина такого рода сбывается лишь тогда, когда торжественно провозглашается или открывается заново. Для наших дней имеет большое психологическое значение, что в 1950 году небесная Невеста соединилась с Женихом.»
«Последовательность папской декларации непревзойденна – ведь она уступает протестантизму odium чисто мужской религии, лишённой метафизического образа женщины, подобно тому, как был его лишён митраизм, которому это предубеждение дорого обошлось. Протестантизм явно недостаточно учёл знамения времени, указывающие на равноправие женщины. А ведь именно такое равноправие имеет свои метафизические корни в фигуре «божественной» Жены, Невесты Христовой. И как личность Христа незаменима никакой организацией, так и Невеста незаменима никакой церковью. Женское начало требует столь же личностного представительства, как и мужское.»
«Новый догмат означает обновление надежды на исполнение глубочайшего чаяния души – примирения и уравнивания противоположностей, между которыми теперь царят угрожающе напряженные отношения. Любой человек причастен к этой напряжённости, и любой испытывает её на себе в индивидуальных формах нервозности – и тем сильнее, чем меньшей кажется ему возможность преодолеть её рациональными средствами. Поэтому неудивительно, что в глубинах коллективного бессознательного и одновременно в широких массах просыпается надежда или ожидание какого-то божественного вмешательства. Папская декларация придала этому страстному желанию отрадное выражение.»
«Протестантизм откровенно утратил контакт с мощными архетипическими процессами индивидуальной и массовой психики и с теми символами, которые призваны компенсировать поистине апокалиптическую ситуацию современного мира. Он, очевидно, стал добычей рационалистического историзма и, должно быть, лишился разумения Святого Духа, живого в сокровенных глубинах души.»

Несколько позднее православный мыслитель Евдокимов, поздний классик парижской школы богословия напрямик инкорпорирует юнгианский психоанализ догмата Успения в православное богословие; в «Женщине и спасении мира» читаем:
«Рожденный от Девы Марии и Духа Святого возвещает в Трисолнечном состоянии Богоявления конец монотеистического царства Яхве. Но рождество, совершенное Богоматерью без человеческого отца, возвещает также и конец царства самца, конец патриархата. В своей феноменологии религиозного сознания — и здесь все его величие — Юнг вскрывает истину догмата. Богородица — не просто агент для осуществления Воплощения. … Юнг проявляет удивительную интуицию, когда говорит, что событие Успения Пресвятой Богородицы содержит все элементы ответа Иову. Именно анамнез Софии является ключом к истории Иова. Потрясающее откровение об очеловечении Яхве возможно лишь в лоне Святой Троицы. София побуждает Яхве открыть Себя как Троицу. Это откровение посредством Воплощения связано с мариологией, которая одна освещает и объясняет глубокие основания христологии. … Успение и Вознесение Пресвятой Богородицы на небо для Юнга есть отождествление Пресвятой Девы с Софией Божественной мысли. Это откровение женского и вечного, но не “вечно женственного” романтиков, а одновременно вечно девственного и материнского библейского Откровения. Успение является экспликацией женского архетипа.»
Принципиально важна фраза «откровение не “вечно женственного” романтиков, а вечно девственного»: тут один из итогов развития софиологии как таковой. Соловьев завязал некий историософско-политически-социально-экономический узел, гендерно-сексуальный аспект, которого символизировался Софией, Вечной Женственностью. И вот принципиальная поправка, которую к софиологии делают два теолога-постмарксиста. Бердяев в «Этюдах о Бёме» пишет: надо говорить не о Вечной Женственности, а о Вечной Девственности. Женственность — образ из земного, падшего пола; а все дело в спасении-обожении его: лучше говорить о девстве. И Булгаков в малой и большой трилогиях, в «Апокалипсисе» создает систему софиологического богословия, но и у него София — не Женственность, а Девственность, и обоженность в гендерном плане есть софийность — девство. А ведь между тем так было уже у Бёме, который вел речь о Небесной Деве — и её потере в грехопадении (в котором и появляется женственность). А ведь Бёме — автор в юнгианском контексте важнейший: его дискурс венчает и итожит алхимический/астрологический дискурс, который по Юнгу играет роль образца учрежденной им аналитической психологии (и добавим: бёмианский дискурс учреждает новоевропейскую формацию диалектики) .
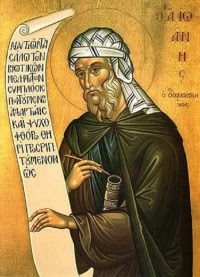
Три похвальных слова прп. Иоанна Дамаскина на Успение Приснодевы — классический святоотеческий текст, где находим все основные сюжеты и темы Успения, которые теперь после прочитанного мы можем осмыслить в их подлинной — бездонной, пресветлой — глубине. Прп. Иоанн Дамаскин, в частности, особо подчеркивает отличие почитания Богоматери от языческого поклонения Богине-Матери:
«Зная эту Деву как Матерь Бога, мы празднуем Ее успение, но не именуем Ее богиней, — прочь от нас подобные россказни эллинской глупости; ведь мы и смерть Ее возвещаем, — но мы Ее знаем как Матерь Бога, потому что Бог воплотился [из Нее]. … Итак, придите, будем и мы сегодня праздновать исходный праздник Матери Божией без свирелей и корибантов и не совершая вакхических шествий в честь Матери ложноименуемых богов».
На этот счет, для финального прояснения догматического смысла Успения, процитируем еще раз булгаковский трактат:
«Отсюда [из догматического факта смерти Девы Марии] следует, между прочим, наглядное, практическое опровержение католического догмата о непорочном зачатии Марии, в смысле полного Ее изъятия от первородного греха. Если бы это было так, то возвращение Деве Марии donum superadditum [чрезвычайного дара] в той же степени, как имел его Адам до грехопадения, т. е. освобожден от первородного греха, неизбежно должно было бы обозначать и освобождение от власти смерти. Последнее входило в состав donum superadditum, представлявшим в этом смысле некоторое насилие над человеческой природой, созданной по естеству смертною. И Успение Богоматери является наглядным доказательством неверности всего этого богословского построения» — «не именуем Ее богиней … ведь мы и смерть Ее возвещаем» по Дамаскину.
Итак, дадим слово прп. Иоанну Дамаскину, который воссоздает ту структуру, которую мы пытались в этом тексте показать: неразличимость тварности и нетварности, онебесенное земное, воскрешенная нетленная плоть, обоженность и восславленность приснодевства, бездна любви и радости, мирности и кротости, сладчайшее всех благо:
«Ныне получает начало второго бытия от Давшего Ей начало прежнему бытию Та, Которая дала начало второго — имею в виду телесного — бытия, не Имеющему временного начала Своему первому и вечному бытию.
Все творение пусть восхвалит празднично восхождение Богоматери. Хоры юношей да восклицают радостно, уста ораторов да разразятся песнопениями, сердца мудрых да философствуют о чуде.
Врата рая открываются и принимают богоносную землю, на которой произошло древо вечной жизни.
Сколь дивно! Источник жизни, Господа моего Матерь умерла. Надлежало, чтобы образованное из земли возвратилось в землю и затем переселилось на небо, приняв в земле дар чистейшей жизни через оставление в ней тела. Надлежало, чтобы плоть, оставив земную и неимеющую света отягченность смертности и сделавшись в горниле смерти нетленной и чистой, сияющей светом нетления, восстала от гроба.
Надлежало, чтобы Та, Которая странноприимствовала Бога Слова в чреве Своем, Сама поселилась в божественных скиниях Своего Сына; ибо если в Нем жилище всех радующихся, то где же [может быть] причина радости? Надлежало, чтобы Сохранивший в рождестве [Ее] девство нерушимым, соблюл и по смерти [Ее] тело нетленным. Всесвятое тело полагается во всеславном и дивном гробе; и оттуда на третий день возносится в небесные обители.
Она явила всем неизреченную бездну любви Божией к людям. Бог Слово и Господь Славы, благоволивший воплотиться по ипостаси и вочеловечиться от Нее и родиться по плоти, а после рождества сохранивший невредимым Ее девство, Сам благоволил и после отшествия Богоматери почтить Ее чистое и незапятнанное тело нетлением и перемещением прежде общего для всех воскресения. Сама Дева, и любит девство; обнимает мирное и кроткое помышление; любовь, милость и смирение охватывает руками, как своих кормилиц. Ложе божественного воплощения Слова упокоилось в преславном гробе как в опочивальне, откуда оно взошло в небесный брачный чертог. Гроб называешь ложем? Да, ложем а прекраснейшим всякого иного ложа. Это ложе способствует не плотскому соединении любящих земной любовью, но доставляет тем, которые пленены Духом, жизнь святых душ, предстояние пред Богом, лучшее и сладчайшее из всех благ. Этот гроб прекраснее Эдема. Этот гроб вознес от земли на небо смертное тело, а Эдем прародителя низвел с высоты на землю.
Радуйся, неисчерпаемое море радости!»
Христианство без мариологии — принципиально не полно. Говоря формально теологически, Приснодева представляет уже спасенное, уже обоженное, уже восславленное творение: в Ней Царствие Божие в полноте уже совершилось в некогда падшем творении. Говоря не формально теологически, но, кажется, глубже, Приснодева являет совершенную, абсолютную любовь: Бог есть любовь, а любовь совершенная, запредельная — обоженная любовь творения к Творцу, человека к Богу как к своему сыну, ребенку, младенцу. Абсолютная, бесконечная любовь Бога парадоксально как бы превосходит самую себя: Приснодева любит всех безусловной любовью — как бы не различая уже божественное и человеческое, святое и грешное — покрывая и Бога как Своего ребенка и всех нас падших существ. Христианство здесь достигает своей полноты: ослабление, уничижение Божественного празднует здесь свое торжество: здесь не только не поклоняются Высшему как Силе, не только даже тут Бог становится человеком и распинается, но здесь как бы все вовсе переворачивается — здесь любовь Бога к людям покрывается любовью людей к Нему — распинаемой любви Бога к людям как был не то что глубже, но как бы парадоксальным следствием ее делает, как бы причиной ее становится — рождающая Бога человеческая любовь к Нему: здесь любят Божество как младенца, то есть как слабейшее, малейшее, бессильнейшее, мельчайшее, бесконечно и нежнейше любимое — и этой любви материнской к Божеству поклоняются, восславляют как совершенное явление божественной (к Богу обоженной) любви. Бог не только не как Сила и Власть, но как бессильнейшее существо — не субъект, а объект любви, заботы: в этой любви к Богу как к младенцу, наравне с Ним покрывающей и всех тварных существ, христианство находит свою первую-последнюю высоту-глубину, средоточие, полноту, торжество: обоженная тварная любовь к Богу покрывает Его как своего ребенка, как младенца.
Это — высочайшее, глубочайшее, радостнейшее, нежнейшее, милейшее. — Но когда на иконе Успения видим как Христос держит на руках как младенца Свою Мать понимаем: есть еще высочайшее, еще глубочайшее, еще радостнейшее, еще нежнейшее, еще милейшее.




