
Во время Великого поста Православная Церковь обращает внимание на чтения из Ветхого Завета. Книга Екклесиаста не включена в богослужебное употребление, поэтому можно уделить ей особое внимание. Читаем ее и размышляем вместе с библеистом Владимиром Сорокиным.
Человек не может ничего прибавить к Божьему миру и ничего не может от него убавить
Еккл 3:14
Как нам уже приходилось говорить, Екклесиаст, которого мы знаем на протяжении большей части книги, — человек ищущий Бога и доходящий иногда в своих поисках почти до отчаяния. В конце концов он находит нечто, за что можно ухватиться в бессмысленном и безнадежном мире, но найденная опора казалась достаточно хрупкой.
Между тем в конце книги мы видим свидетельство о совсем другом Екклесиасте, об Екклесиасте, который, судя по словам неизвестного автора (возможно, он был одним из его учеников или слушателей), был человеком Торы, прекрасно знавшим традицию мудрости, с ней связанную. Квинтэссенция учения этого сильно изменившегося Екклесиаста сводится к страху Божию и соблюдению заповедей (Еккл 12:13–14).
Возможно, что и указание на неуместность слишком интенсивного чтения (имеется в виду, очевидно, духовная литература) (Еккл 12:11–12) тоже восходит к Екклесиасту, хотя и цитируется кем-то другим.
В этом отношении, надо признать, у Екклесиаста был большой опыт: он ведь в свое время пытался найти мудрость именно в духовной литературе, и вначале в этом, по собственному его признанию, не преуспел.
Теперь он понимает, что дело тут не в количестве прочитанных книг, а в глубине и качестве их прочтения — ведь все их авторы говорят, в сущности, об одном и том же, а потому гоняться за количеством прочитанных книг в данном случае не имеет смысла: если читающий проникнет в суть написанного у одного из авторов, он поймет и других, которые говорят похожие вещи, быть может, несколько иными словами и под другим углом зрения.
К тому же мудрость, как понял теперь Екклесиаст, достигается не через тексты, а через практику, суть которой изложена в двух стихах: страх Божий с памятью о грядущем Суде и следование Торе, Божьим заповедям, составляющим ее ядро.
Как видно, Екклесиаст за то время, которое отделяло начало его исканий от времени написания упомянутого эпилога (в сущности, мы даже не может быть уверены, был ли он написан еще при жизни Екклесиаста или уже после его смерти), сильно изменился и стал во многом совершенно другим человеком.
Теперь он был человеком Торы, настоящим екклесиастом, учителем народа, которому было что сказать верующим людям в собрании. Надо признать, что все, что мы видим в основном тексте книги, довольно далеко от той спокойной уверенности и знания, которыми полон эпилог.
Что же произошло с Екклесиастом за то время, которое отделяет начало его пути от времени, когда он стал проповедником? Каким был его путь? Прямого ответа на этот вопрос в книге нет, но некоторые предположения сделать все-таки можно.

Тут прежде всего надо отметить глубину того понимания, которое скрыто за словами о страхе Божьем и о следовании заповедям. Может показаться, что здесь все очевидно и просто: если не хочешь, чтобы Бог тебя наказал (на Суде или раньше), следуй Его заповедям, и тогда Он тебя наградит (если повезет, еще при жизни) и оправдает на Суде. Такой подход, однако, является абсолютно поверхностным, хоть и широко распространенным, и он очень далек от той глубокой духовной традиции, которая стоит за простыми, на первый взгляд, словами эпилога.
Об одной стороне этой проблематики — о страхе Божьем — нам уже приходилось говорить. Такой страх у Екклесиаста в начале его пути действительно был, но он был как раз поверхностным: Бог для него был кем-то вроде «самого большого начальника», которого, конечно, следовало уважать и побаиваться и уж точно нельзя было быть с ним, как говорится, на короткой ноге. С Богом надо было держать дистанцию — так, вероятно, учили Екклесиаста в той среде, где он рос и воспитывался.
Эта среда не была атеистической, но на Бога тут смотрели прежде всего как на Вседержителя, Царя вселенной, к Которому, как ко всякому царю, так просто не подойдешь и Который может быть достаточно строг, чтобы найти вину во всяком человеке, если того пожелает.
Между тем страх Божий, о котором говорится, к примеру, в Книге Притчей (где мы и находим собрание той мудрости, с которой знакомился Екклесиаст в начале своих исканий), под страхом Божьим понимается скорее тот священный трепет, который переживает человек в Божьем присутствии. Человек тут боится не наказания как такового, он боится потерять то, что ему открылось; он знает, что, согрешив, уже не сможет вот так же, как теперь, прийти к Богу и побыть с Ним наедине, в том общении, потерять которое для имевшего соответствующий опыт хуже любого наказания.
Но, конечно, это актуально лишь для тех, у кого соответствующий опыт имеется — всем остальным, скорее всего, просто останется непонятным, о чем вообще идет речь, как было оно вначале непонятно самому Екклесиасту.
С пониманием страха Божия связано и соответствующее понимание заповедей. Когда страх Божий — страх в первую очередь наказания (и тут уж неважно, видится ли такое наказание как молния, на месте поражающая грешника, или как осуждение на Суде), заповеди неизбежно должны будут восприниматься прежде всего как кодекс, юридический и/или моральный.
Разница тут меньше, чем может показаться: ведь и то, и другое предполагает, что человек ограничивается, ставится в заданные кодексом рамки, а разница заключается лишь в том, что юридические рамки на человека накладывают другие, моральные же он накладывает на себя сам. В сущности же ни те, ни другие рамки человека не меняют и изменить не могут, они ничего не могут поделать с его природой, зато могут, так сказать, натаскать человека не правильное поведение, выдрессировать его так, чтобы он был предсказуем (в менее обидном для самолюбия варианте такая дрессировка называется иногда социализацией).
Природа (как физическая, так и психическая) меняется лишь под прямым Божьим воздействием, под действием Его дыхания, которое мы называем обычно Святым Духом. Пребывания в Божьем присутствии требует уже первая заповедь из десяти: она ведь не просто запрещает верующим в Бога Авраама участие в любых языческих культах («да не будет у тебя других богов, кроме Меня»), но и провозглашает откровение и предстояние («Я Яхве, Бог твой, выведший тебя из земли Египетской, из дома рабства») (Исх 20:2–3; перевод мой. — В. С.).
Страх Божий тут предполагается, но не как страх наказания, а как страх той самой потери Бога, о которой было сказано выше. Таким же образом можно увидеть глубину и в других заповедях, которые тогда перестают быть просто моральным кодексом, становясь, по сути, описанием духовного пути, который приближает человека к Богу. Такое представление о заповедях, вероятно, существовало уже до Вавилонского плена, а после плена оно еще углубилось и уточнилось.
Большую роль тут сыграло откровение пророка Иеремии о новом завете (Иер 31:31–34).
Именно Иеремия, по сути, первым заговорил о внутренней Торе, которая будет не просто выбита на камне, но написана в человеческом сердце, так, что человек, в чьем сердце написана Тора, будет знать Бога, и его не надо уже будет этому учить.
Во времена Иеремии, впрочем, как это бывает нередко, на слова пророка особого внимания не обратили, зато после плена сложилась целая духовная традиция, на них основанная.
Под внутренней Торой после плена стали понимать такую Тору, заповеди которой «написаны в сердце». Сердцем в Библии называется обычно духовный центр человеческой личности, место, где зарождается воля и определяется все, с ней связанное. Именно здесь принимаются решения, делается выбор, определяется, кем и чем будет человек перед Богом и людьми.
Если заповеди укореняются там, в сердце, они перестают быть просто кодексом (неважно, юридическим или моральным), становясь своего рода внутренним императивом, определяющим действие человеческой воли, которая уже не мыслит себя вне пространства Божьих заповедей.
Тогда-то их почитание и становится настоящим, тогда им следуют не на словах и не посредством внешнего усилия, которое зачастую касается не столько намерения, сколько поступка, из него вытекающего, оставляя само намерение, всегда лежащее в основе всего, нетронутым; тогда духовная работа смещается именно туда, в область намерений (в Библии их иногда называют «помышлениями»), формируя их сообразно Божьим заповедям, становящимся своего рода руслом, в котором течет духовная жизнь человека.
Во времена Екклесиаста такие представления о внутренней Торе уже были распространены довольно широко, но вряд ли Екклесиаст что-то о них знал. Собственно, и среди верующих о них знали не все, а лишь те, кто относился к духовной жизни всерьез; Екклесиаст же, как мы видели, тогда еще вообще был от Синагоги довольно далек.
Как же пришел Екклесиаст от той хрупкой радости, о которой нам уже приходилось говорить, к твердой уверенности в Боге и в Его Торе? О самом этом пути в книге ничего не сказано, там описан лишь его итог. И все же кое-что можно предположить, имея в виду прежде всего тот факт, что покой и радость от трудов и отдохновения, переживаемые Екклесиастом, переживались им, по существу, перед лицом небытия и полной бессмысленности окружающего, как нам уже приходилось видеть прежде, когда мы рассматривали основную часть книги.
Уже тогда эта радость была для Екклесиаста связана с Богом, с Его присутствием и Его участием в жизни человека. Бог уже тогда перестал быть для Екклесиаста просто «большим начальником», уже тогда Он стал открываться ему как друг, хотя покамест еще лишь по временам. К тому же и само откровение, и связанная с ним радость оказались, очевидно, не такими, какими ожидал их найти Екклесиаст.
Прежде все, им сделанное, оказывалось для него отравленным перспективой шеола и забвения, обесцененным бессмысленностью конечности всего, созданного человеком. Разумеется, конечно всякое творение, бесконечен лишь Творец, но созданное Богом является частью великого круговорота, Богом же задуманного и организованного, а созданное человеком если исчезает, то навсегда.
Творение имеет смысл и само бытие, лишь оставаясь перед взором своего творца, и если Творец с большой буквы видит Им созданное во всей полноте пространств и времен, то созданное человеком пребывает под присмотром своего создателя сравнительно очень недолго, как правило, его переживая, и потому оно обречено на исчезновение.
Человек не может ничего прибавить к Божьему миру и ничего не может от него убавить — эту истину Екклесиаст понял довольно быстро (Еккл 3:14). Но если так, то мир и радость, которые человек испытывает, наслаждаясь самим трудом или его плодами, должны также быть преходящи, и наслаждение ими должно быть так же отравлено ожиданием грядущего конца, как отравлено им для человека все в этом мире.
Чтобы наслаждаться всем перечисленным вопреки этому ожиданию, наслаждающийся должен иметь в виду (или хотя бы интуитивно предчувствовать) какую-то альтернативу существующему порядку вещей, которую Екклесиаст, вероятно, и почувствовал в некий момент своей жизни, и это дало ему возможность наслаждаться тем миром и покоем в трудах и в наслаждениях их плодами, о которых он говорит.
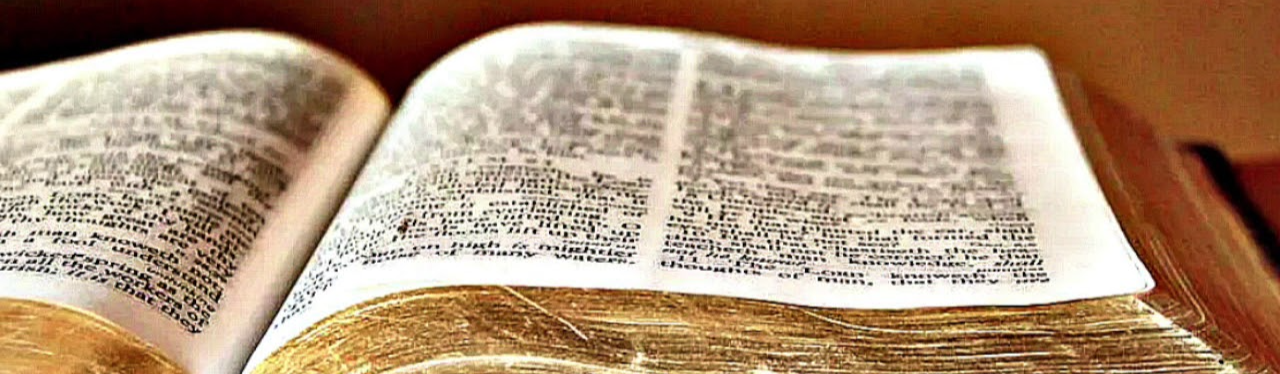
При этом, судя по свидетельству самого Екклесиаста, наслаждение самим ли трудом или его плодами не связано с какой бы то ни было перспективой здесь или в посмертии.
Вокруг ничего не изменилось, в трудах не прибавилось смысла, в застолье — веселья; перспектива шеола никуда не делась, она оставалась такой же безнадежной, какой и была. Мир, радость и надежда оказались связаны с процессом, а не с результатом. Цель все так же не радовала, но сам труд и наслаждение его плодами стали приносить радость.
Это могло означать лишь одно: радость, как и мир, и надежда, стали связываться для Екклесиаста не с будущим, а с настоящим. Прежде, можно думать, он трудился на перспективу, такой труд был понятен ему и привычен, вся прежняя жизнь приучила его работать на будущий результат: он ведь был чиновником, делавшим (и весьма успешно) карьеру, а делать карьеру и означает работать на будущий результат.
Правда, после того как он впервые задумался о смысле жизни, ситуация для него изменилась: прежде все было ясно и понятно, теперь же в жизни появилась неопределенность, которую необходимо было преодолеть, чтобы было чем жить дальше; однако Екклесиаст, вероятно, далеко не сразу понял, что тут важно переосмыслить не только цель, но и путь как способ ее достижения.
По-видимому, он еще достаточно долго был уверен, что цель его пути в будущем, она где-то впереди, и нужно лишь избрать правильное направление, чтобы до нее дойти. Теперь же оказалось, что цель в настоящем, что она находится здесь и сейчас, что ее нужно не столько искать, сколько суметь увидеть.
Оно и неудивительно: ведь и Бог общается с человеком только здесь и только сейчас. Будущего (даже речь идет о следующем мгновении) еще нет, а прошлого (даже бывшего мгновение назад) уже нет, так, что реально только здесь и сейчас, и Бог может открыться человеку по-настоящему только здесь и только сейчас.
Конечно, можно сколько угодно воображать себе «Вседержителя», но это будет просто игра воображения — мы ведь не можем представить себе вневременное бытие, не можем даже описать его на уровне схемы, философской или богословской — любые такие описания будут весьма условными и приблизительными.
Между тем Бог пребывает именно так — вне всякого пространства и вне всякого времени, поэтому ни представить себе, ни описать Его бытие в полноте, как Вседержителя, невозможно. Можно, конечно, представить Его себе «самым большим начальником», как, видимо, довольно долго представлял Его себе Екклесиаст, но эти представления, судя по его книге, не помогли ему в поисках смысла.
Реальное же общение с Богом возможно лишь в настоящем моменте: только здесь и сейчас Он может открыть нам столько же, сколько Ему открыто во всей полноте Его собственного существования.
Воплощенный Бог всегда Эммануил, всегда «Бог с нами», открывающийся здесь и сейчас — иного Бога, если конечно, говорить о реальном, живом Боге, а не о Его картинках, созданных людьми, нам знать не дано.
Если же Бог действительно с нами, нам будет радостно и хорошо и в совместных трудах, и в общем застолье. Вот эту-то радость и вкусил Екклесиаст, когда впервые пережил близость Бога — не Бога своих представлений, а реального, живого Бога, оказавшегося рядом.
Таким было, вероятно, начало духовного пути будущего проповедника.
Может показаться, что никакого пути тут не может быть: ведь цель его — настоящий момент, и она оказалась достигнутой, а если так, то куда же еще идти?
И все же перспектива была, хотя Екклесиаст в тот момент ее, вероятно, не видел, прежде всего потому, что и путь, который ему теперь предстоял, он не сразу смог увидеть, а увидев, быть может, не сразу рассмотрел в нем именно путь.
Для Екклесиаста путь всегда был связан с внешним миром, где ему так или иначе предстояло двигаться к цели; теперь перед ним лежал другой путь, путь внутренний в полном смысле слова, такой путь, который не требовал движения в физическом пространстве и в физическом времени, хотя и не был полностью от них независим.
Двигаться предстояло в том самом настоящем моменте, где Божья вечность соприкасается с тварным пространством и с тварным временем. Этот путь в книге не описан, но, судя по эпилогу, Екклесиаст сумел его пройти: иначе он не стал бы человеком Торы, каким мы видим его в конце книги.
Испытав мир и радость в Божьем присутствии, Екклесиаст лишь прикоснулся к Божьему Царству; теперь ему предстояло двигаться вперед, чтобы оно открылось ему в максимальной полноте, доступной человеку в дохристианские времена.
За настоящим моментом открывалась вечность, за мгновением — полнота всех существующих пространств и времен, за хрупкой надеждой — Божье слово, ставшее внутренней Торой.
Екклесиаст прошел тот путь, который проходили до него многие, искавшие Божьей мудрости и Божьей праведности, и, судя по эпилогу, нашел то, чего искал; однако подробное описание такого пути — уже совсем другая история.




