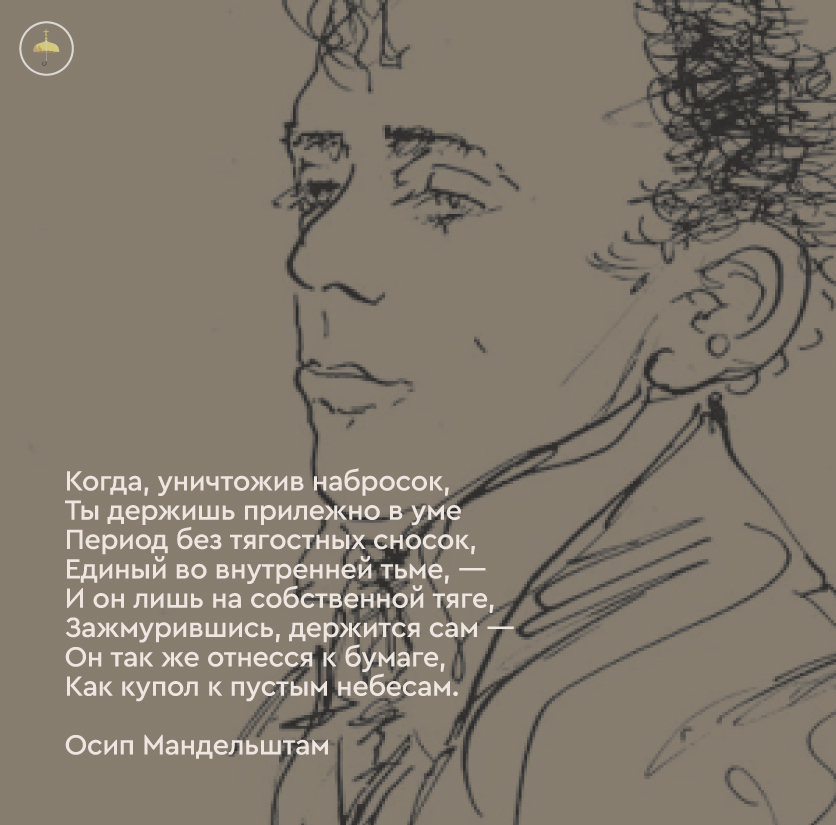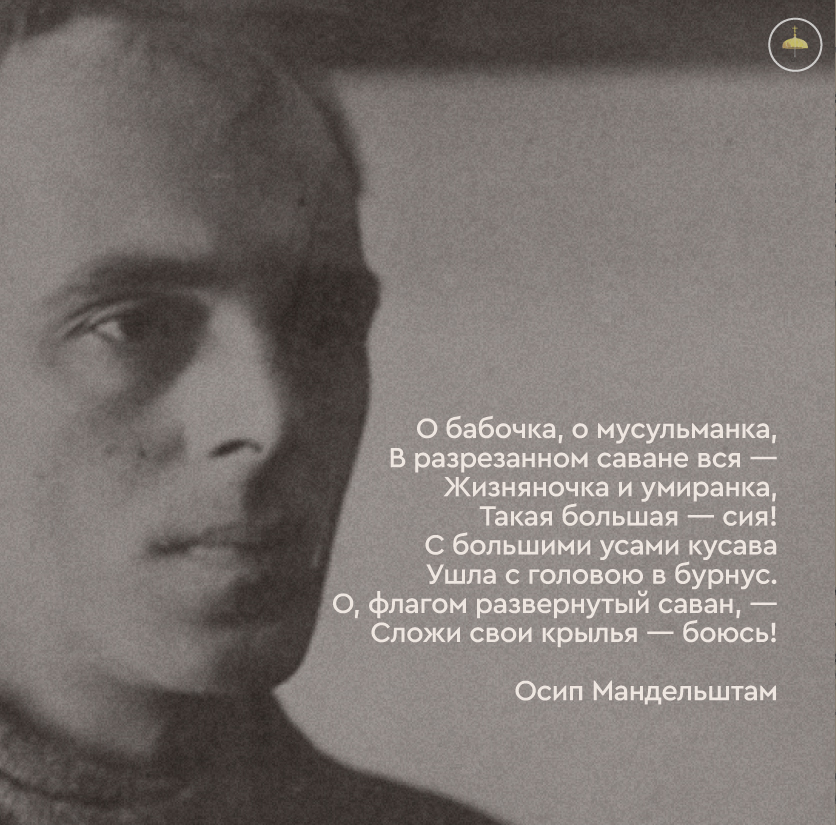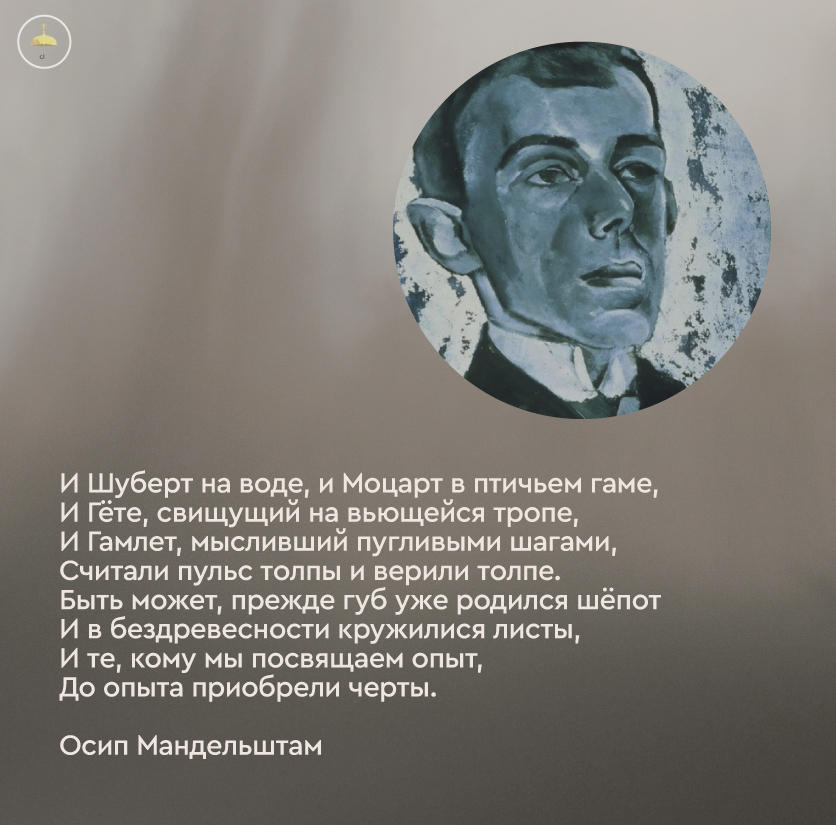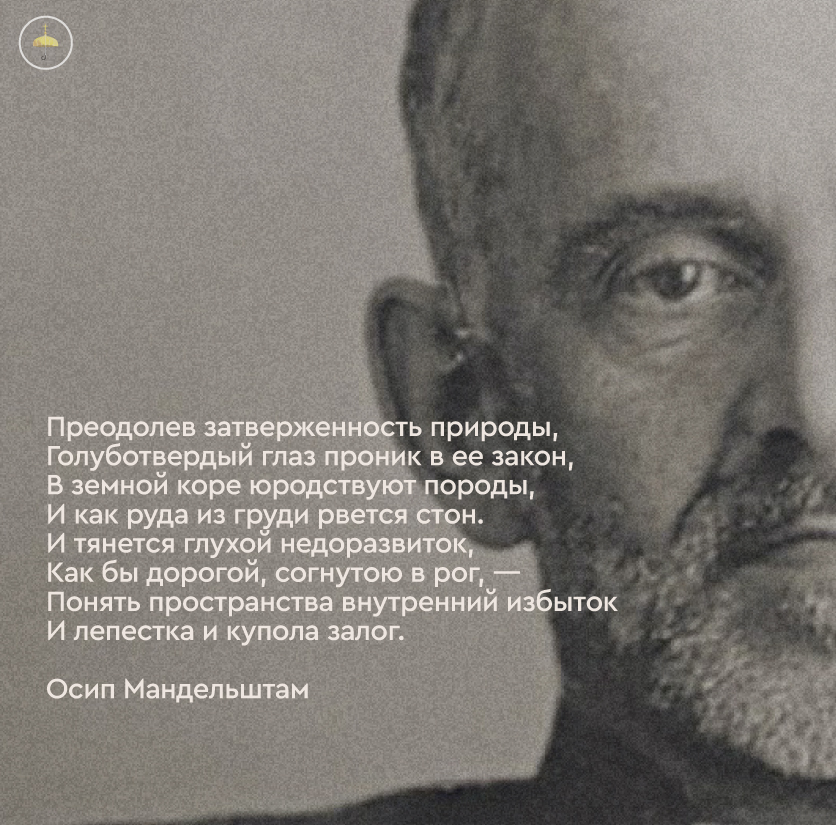Осип Мандельштам — один из самых сложных, самых важных и самых христианских русских поэтов XX века. Доктор философских наук Марина Михайлова предлагает поразмышлять о христианстве Мандельштама на материале короткого цикла стихотворений «Восьмистишия».
Акт свободы и шаг к смерти
Это 11 стихотворений, всего 88 строчек. «Восьмистишия» завершены в январе-феврале 1934 года, часть — в июле 1935-го. Но начаты почти все они в ноябре 1933 года.
Что такое ноябрь 1933-го в жизни Осипа Мандельштама? Это момент, когда он пишет знаменитое: «Мы живем, под собою не чуя страны…» Каждое слово, каждая строчка здесь — достаточный повод для смерти. Поэт оказывается в ссылке сначала в городе Чердынь, потом в Воронеже, потом ненадолго возвращается в Москву, чтобы в конце концов умереть под Владивостоком.
Осип Эмильевич — один из самых умных людей XX века. То, что он делает, он никогда не делает по глупости, по недомыслию, случайно. Недавно я с изумлением услышала в интервью одного известного поэта: «Я не понимаю, зачем Мандельштаму было сочинять и читать эти антисталинские стихи? У него же была квартира в Москве, в писательском доме»… Если для человека квартира в Москве — аргумент, а свобода — нет, то это не поэт. А Мандельштам — поэт. И это стихотворение для него — акт свободы, хотя и первый шаг к смерти.
Идти кружным путем
И поскольку Мандельштаму предстояло умереть, поскольку он готовился к переходу в другой мир, к Господу, то ему надо было понять мир, самого себя и Бога.
Главная тема восьмистиший — пространство. Но пространство, соединенное со временем, обращенное в бесконечность и вечность. Стремящееся в конечном счете переместить нас в священное измерение, поставить лицом к лицу с Богом. Хотя слово «Бог» ни разу здесь не звучит.
Американский поэт Уистен Хью Оден говорил Бродскому: «Хорошо было Иоганну Себастьяну Баху: захотел прославить Бога, взял и написал мессу». А в XX веке так делать уже нельзя. И если хочешь прославить Бога, иди кружным путем — прославляй красоту мира, глубину искусства.
Первое слово — «люблю»
Итак, первое восьмистишие:
Люблю появление ткани,
Когда после двух или трех,
А то четырех задыханий
Придет выпрямительный вздох —
И дугами парусных гонок
Открытые формы чертя,
Играет пространство спросонок —
Не знавшее люльки дитя.
В любом художественном произведении удачное начало и качественный конец — критерии успеха. С чего начинает Мандельштам? Он говорит: «Люблю». Он произносит самое важное слово в русской литературе и вообще на белом свете. Потому что любовь — это основа мироздания. Сам Бог есть любовь.
И дальше Мандельштам рассказывает о своей любви. «Люблю появление ткани» — о чем это? Конечно, о тексте, потому что он поэт и пишет о поэзии. Само слово «текст», переведенное с латыни, означает «ткань». Поэты занимаются тем, что соединяют слова, так же как женщина вышивает.
Но это не все. Человек тоже состоит из тканей, но дело не только в физиологии. В Писании Бог говорит пророку: «Прежде нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, Я освятил тебя» (Иер 1:5). Ткань нашего естества — это результат творческого действия Бога. И ткань в этом стихе также — это материя.
Аристотель под словом «ткань» имеет в виду строительный лес, то, из чего соткан весь мир. И правда, никакой «чистой» духовности не может быть после того, как воплотился Господь. Боговоплощение — это грандиозный проект оправдания материи, оправдания жизни, тела, человека.
Итак, поэт смотрит в самое начало вещей. Его строки можно соотнести с началом Книги Бытия или началом Евангелия от Иоанна.
Для чего нужен вздох
Когда после двух или трех,
А то четырех задыханий
Придет выпрямительный вздох
А это о чем? Во-первых, о самом искусстве, потому что и танец, и музыка связаны с ритмом дыхания. Это даже не метафора, а прямое обозначение творческого процесса. Поэт искал внутри себя ритм и нашел его: стих, музыка, живопись рождаются как выдох — легкий и простой, ведь искусство просто. Трудно его делать, а результат очень простой.
Второй образ — рождение: все женщины, которые рожали, помнят, как акушерка говорит: «Дыши, дыши!» Если не будешь дышать, не родишь. Выпрямительный вздох — это ситуация, когда человек родился. Рождение текста уподобляется рождению человека.
И дугами парусных гонок
Открытые формы чертя,
Играет пространство спросонок —
Не знавшее люльки дитя.
Родиться — это значит приобрести пространственную форму. О том же Мандельштам пишет в «Египетской марке»:
«Нотное письмо ласкает глаз не меньше, чем сама музыка слух. Черныши фортепианной гаммы, как фонарщики, лезут вверх и вниз <…> Миражные города нотных знаков стоят, как скворечники, в кипящей смоле».
То есть музыка имеет пространственную форму, и в нотной «пространственной» записи отражается звуковая реальность.
Но при чем здесь дуги парусных гонок? Если вы когда-нибудь наблюдали, как люди под парусом ходят, то знаете, что они действительно чертят линии и дуги, так что пространство становится живым и настоящим, перестает быть пустым и поэтому непостижимым. Для того чтобы схватить пространство, в нем должна быть линия, в нем должно быть движение.
Великий философ Мартин Хайдеггер говорил, что с XVII века мы понимаем пространство очень научно, но очень по-дурацки. Три измерения, как у обувной коробки: высота, длина и ширина. И от того, что сформировался такой образ пространства, люди впали в многовековую депрессию: неужели весь мир — это отщелкивание безжизненных единиц во времени или в пространстве? Хайдеггер говорит, что все не так. Да, пространство техники именно такое. Мы не можем построить машину, если у нас нет трехмерной системы координат. Но не весь мир построен по законам техники, живое изменчиво, всегда другое. Хайдеггер говорит, что пространство — это что-то вроде материнского объятия, которое дает место вещам и людям и отношениям между ними.
Да, пространство — это условие формы, но и само оно становится видно только тогда, когда в нем присутствует какая-то конкретная форма. Оно дает место вещам. Но и творит вещи, является творческим началом мира.
Поэзия в бормотаниях
Второе восьмистишие напоминает 2-ю главу Книги Бытия, которая вновь рассказывает о творении мира, но другими словами и по-другому расставляя акценты.
Люблю появление ткани,
Когда после двух или трех,
А то четырех задыханий
Прийдет выпрямительный вздох —
И так хорошо мне и тяжко,
Когда приближается миг —
И вдруг дуговая растяжка
Звучит в бормотаньях моих.
Начало такое же, как в первой строфе. И можно сказать, что это два варианта одного и того же стихотворения. Друг и очень внимательный читатель Мандельштама Рудаков убеждал поэта убрать второй вариант. Но Мандельштам сказал Надежде Яковлевне: «Запиши оба».
Почему? Потому что зачин один и тот же, но логика восьмистиший разворачивается в разные стороны. В первом случае — вовне. Во втором — вовнутрь. То, что начерчено снаружи, начерчено и внутри, но только разными способами. Если снаружи мы видим формы пространства, то внутри — некие идеальные сущности, которые звучат. Наш внутренний мир — это скорее мир звука, мир музыки, а внешний — это зримая форма.
И вдруг дуговая растяжка
Звучит в бормотаньях моих.
Мандельштам свои стихи сначала бормотал, бубнил, ходил из угла в угол. Как говорила Надежда Яковлевна, выборматывал стихотворения. А потом говорил: «Надя, пиши». И диктовал уже готовый стих.
Нельзя сказать, что он сочинял. Потому что поэзия не придумывается, она извлекается. Поэт ее откуда-то берет, если слушает внимательно. Его бормотание, слушание — это настройка. Он пробует случайные слова, подбирает, как на рояле подбирают мелодию. И вдруг все получается!
Следующий стих как раз про то, как получилось.
Купол придает смысл небесам
Когда, уничтожив набросок,
Ты держишь прилежно в уме
Период без тягостных сносок,
Единый во внутренней тьме, —
И он лишь на собственной тяге,
Зажмурившись, держится сам —
Он так же отнесся к бумаге,
Как купол к пустым небесам.
Сначала ты долго держишь в уме, в темноте слитное высказывание. Потом оно выходит на свет. Сначала плод созревает, потом рождается. Сначала ткань текста складывается, потом произносится.
И он лишь на собственной тяге,
Зажмурившись, держится сам
Произведение искусства, художественное творение может держаться на внешних подпорках. Как великие произведения социалистического реализма вроде романов «Цемент» или «Бруски». Много таких книг, которые считались классикой, а потом их никто не читает.
Почему так? Потому что они не держатся на собственной тяге. А есть вещи, которые держатся сами собой. Нас никто не заставляет слушать 40-ю симфонию Моцарта. Но мы ее ставим на мобильные телефоны и говорим «как здорово».
Он так же отнесся к бумаге,
Как купол к пустым небесам.
Когда стихотворение записывается на бумаге, она получает смысл, делается драгоценной рукописью. Когда в небо вознесся купол, то и небо получило смысл. В архитектуре византийской и русской купол — это символ небес. Купол воспроизводит форму неба, как его понимали древние люди, которые считали, что прозрачная хрустальная полусфера положена на землю, как опрокинутая чаша.
Тема архитектуры для Мандельштама невероятно важна. Вот стихотворение «Адмиралтейство» (1913):
В столице северной томится пыльный тополь,
Запутался в листве прозрачный циферблат,
И в темной зелени фрегат или акрополь
Сияет издали — воде и небу брат.
Ладья воздушная и мачта-недотрога,
Служа линейкою преемникам Петра,
Он учит: красота — не прихоть полубога,
А хищный глазомер простого столяра.
Нам четырех стихий приязненно господство,
Но создал пятую свободный человек:
Не отрицает ли пространства превосходство
Сей целомудренно построенный ковчег?
Сердито лепятся капризные Медузы,
Как плуги брошены, ржавеют якоря —
И вот разорваны трех измерений узы
И открываются всемирные моря.
Какое поразительное отношение к плоти человеческого мира. Мандельштам говорит, что мастерство человека, способность складывать камни и чертить чертежи — это залог бессмертия. Потому что помимо четырех стихий, из которых создан мир, человек создает пятую стихию искусства, и помимо трех измерений — какое-то новое пространство. Путь в вечное, бесконечное, божественное лежит через вещественное, через то, что построено руками, через то, что придумано умом инженера или архитектора.
Приводить в порядок тело, дом, мир
Еще одна цитата — из статьи «Утро акмеизма», посвященной символистам, у которых Мандельштам многому научился:
Символисты были плохими домоседами, они любили путешествия, но им было плохо, не по себе в клети своего организма и в той мировой клети, которую с помощью своих категорий построил Кант. Для того, чтобы успешно строить, первое условие — искренний пиетет к трем измерениям пространства — смотреть на них не как на обузу и на несчастную случайность, а как на Богом данный дворец.
Очень часто христианин смотрит на тело как на несчастный случай. Скорей бы умереть, чтобы душа освободилась, вознеслась к Богу, где и начнется полноценное существование. А можно уже при жизни построить что-то великое. Если смотреть на три измерения не как на обузу и несчастный случай, а как на Богом данный дворец.
В самом деле, что вы скажете о неблагодарном госте, который живет за счет хозяина, пользуется его гостеприимством, а между тем в душе презирает его и только и думает о том, как бы его перехитрить? Ведь нам и тело, и мир даны Господом Богом. Мы живем у Него в гостях и думаем: скорее бы все это кончилось. А вместо этого у нас только один есть путь: приводить в порядок и тело, и дом, и мир вокруг себя.
Вот отсюда и любовь Мандельштама к архитектуре, потому что архитектура — это и есть домостроительство. Когда человек строит дом, церковь, адмиралтейство, он помогает Богу строить мир, ни больше, ни меньше.
Жизнь и смерть — в бабочке
О бабочка, о мусульманка,
В разрезанном саване вся —
Жизняночка и умиранка,
Такая большая — сия!
С большими усами кусава
Ушла с головою в бурнус.
О, флагом развернутый саван, —
Сложи свои крылья — боюсь!
Пастернаковская интонация… тема жизни… Бабочка — это дотворческий человек. Она очень красивая, но она обречена, она умрет. Это жизнь в какой-то своей чистоте, без включения разума и творческой воли. Это стихи про красоту мира и призвание человека.
Рассмотрим сам образ бабочки. У нее с одной стороны неимоверно яркий, прекрасный узор. А с другой стороны? Траурный саван, что-то серенькое, черненькое, то, что мы на похороны надеваем. Эта жизняночка и умиранка — человеческая душа.
Идеальные формы у Христа за пазухой
И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме,
И Гёте, свищущий на вьющейся тропе,
И Гамлет, мысливший пугливыми шагами,
Считали пульс толпы и верили толпе.
Быть может, прежде губ уже родился шёпот
И в бездревесности кружилися листы,
И те, кому мы посвящаем опыт,
До опыта приобрели черты.
Забавно, что литературный герой и творец уравнены в пространстве искусства. Но еще интереснее, как соотносятся гений и толпа. В романтическом дискурсе они обычно противопоставлены. Есть, например, Байрон, великий, гениальный, непонятый, а есть серая масса людишек, которых можно вообще не принимать во внимание. Из этого миросозерцания рождается, в том числе, коммунистический проект.
Пушкин хорошо сказал в «Евгении Онегине»:
Мы все глядим в Наполеоны;
Двуногих тварей миллионы
Для нас орудие одно…
Мандельштаму была понятна тупиковость романтического проекта: гения с широкой грудью осетина мы уже вспоминали. С его точки зрения, настоящий гений — это тот, кто считает пульс толпы, является ее голосом. Как опять-таки у молодого Пушкина:
И неподкупный голос мой
Был эхо русского народа.
Поэзия невозможна без уважения к толпе, без нежной любви к ней, без отношения к ней как к великому живому телу. Об этом говорит Мандельштам, а еще о том, что природа и искусство — взаимозаменяемые вещи. Шуберт — на воде, Моцарт — в птичьем гаме, Гёте — на вьющейся тропе. Мы видим лес, по которому течет река, а на берегу стоят деревья, в ветвях птички поют. Вот настоящий материал и для музыки, и для поэзии. Потому что она рождается не из чего-то мертвого, а из ткани того мира, который нас окружает.
Быть может, прежде губ уже родился шепот
И в бездревесности кружилися листы,
И те, кому мы посвящаем опыт,
До опыта приобрели черты.
Это, конечно, Книга Бытия: «и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли» (Быт 2:5).
Мы говорим, что этих вещей еще нет, хотя понимаем, что они уже присутствуют в замысле Божием. Близок к этому и Платон: существует мир идеальных сущностей, которые воплощаются в деревьях, листах и всем остальном. Есть идеальные формы, которые хранятся где-то у Бога, у Христа за пазухой, и только благодаря им возможны формы реальные.
Кто сильнее: ветер или Дух?
Скажи мне, чертежник пустыни,
Сыпучих песков геометр,
Ужели безудержность линий
Сильнее, чем дующий ветр?
— Меня не касается трепет
Его иудейских забот —
Он опыт из лепета лепит
И лепет из опыта пьет.
Мандельштам, несомненно, обращается к ветру — кто бывал в пустыне, тот помнит, как там все геометрически невероятно. Но вместе с тем это «ураган аравийский» из стихотворения Пастернака «Лето», ураган, в котором дуновение чумы, создатель безжизненного пустого пространства, чистого геометрического объема.
Поэт спрашивает: кто сильнее, ты или Бог, Который линии чертит, создает формы? Ветер ему отвечает словами о Боге. Что они значат?
Опыт — это форма, произведение. Художественный опыт рождается из лепета, из детского непосредственного отношения к миру. И наоборот, Бог и человек, сотворенный Богом, получает возможность быть ребенком, быть простым, искренним, благодаря искусству. Потому что мы иначе зачахнем, нас этот мир раздавит.
Премудрость, постижимая человечеством
И клена зубчатая лапа
Купается в круглых углах,
И можно из бабочек крапа
Рисунки слагать на стенах.
Бывают мечети живые,
И я догадался сейчас:
Быть может, мы — Айя-София
С бесчисленным множеством глаз.
Это про постоянную взаимозаменяемость живого и мертвого. Например, живые существа своими узорами вдохновляют декоративно-прикладное искусство. Но и наоборот, казалось бы, мертвый храм Софии Константинопольской позволяет нам понять, что такое человечество. И этот храм хорош еще и потому, что он мусульманский. Мы, Измаил и Исаак, христиане и мусульмане, никогда не сможем примириться, пока не поймем, что все люди — братья, потому что сотворены Богом. Потому что составляем единый храм. Причем какой храм? Софии — Премудрости Божией, которая доступна только в масштабах человечества.
Когда какой-то человек говорит: «Я знаю точно, как устроен мир», можно ему сразу говорить: «Спасибо, до свидания». Никто не знает — ни Гегель, ни Хайдеггер, ни Маркс — знаем только мы все вместе. И это знание всегда больше нас.
Как приобрести шестое чувство
Шестого чувства крохотный придаток
Иль ящерицы теменной глазок,
Монастыри улиток и створчаток,
Мерцающих ресничек говорок.
Недостижимое, как это близко!
Ни развязать нельзя, ни посмотреть, —
Как будто в руку вложена записка
И на нее немедленно ответь.
В Воронеже, где Мандельштам дописывает эти стихи, он встречается с чудесным человеком — Борисом Кузиным, философом, филологом и… энтомологом. Может быть, общение с Борисом Сергеевичем — это один из источников интереса к маленьким вещам. Другой источник — античная философия. Греки говорили, что есть микрокосмос и макрокосмос, что человек подобен мирозданию.
Но и это не всё. Наше тело — дом для души. Наше тело живет где? В нашем доме. Наш дом живет в нашем же мире. А мир где живет? В пространстве и времени.
А пространство и время где? В Боге, Который все это сотворил. Мы видим чудесную матрешку, которую можно складывать — от малого к большому. А можно разбирать — от большого к малому. И тогда понятно, почему мы, маленькие — это София Константинопольская.
Человек как Гулливер — то большой, то маленький, смотря куда попал. Он начинает маленькое разглядывать: глазочек ящерицы, рисунок на крыльях бабочки, улиточки, реснички, шерстиночки на лапках насекомых. И говорит, что этот мир взывает к нему так, как будто записку в руки положили. И надо немедленно ответить — ответить этой жизни, которая вся живая: от Бога и до малейшей инфузории.
Благодаря этому рождается шестое чувство, как в стихотворении бесконечно любимого Мандельштамом Гумилева:
Так век за веком — скоро ли, Господь? —
Под скальпелем природы и искусства
Кричит наш дух, изнемогает плоть,
Рождая орган для шестого чувства.
Человек должен научиться видеть божественное. Должен помимо пяти обычных чувств приобрести мистическую интуицию. А кто этому учит? Природа и искусство.
Три этапа познания
Преодолев затверженность природы,
Голуботвердый глаз проник в ее закон,
В земной коре юродствуют породы,
И как руда из груди рвется стон.
И тянется глухой недоразвиток,
Как бы дорогой, согнутою в рог, —
Понять пространства внутренний избыток
И лепестка и купола залог.
Что это за голуботвердый глаз? Многие комментаторы уверенно говорят: «Ну конечно, глаз человека». Но так ли он тверд, глаз человека? Он же жидкий, нежный, хрупкий. Голуботвердый глаз, я думаю, это объектив камеры, микроскопа, телескопа, фотоаппарата. Мы с их помощью познаем природу.
Пока у нас этого глаза не было, мы гораздо меньше знали о природе. Техника, человек, природа, искусство снова воспринимаются как единое целое. Каким образом познается пространство? Сначала мы должны его увидеть обычным глазом. На втором уровне — ощутить себя как живое тело в этом пространстве. Стать, как выражается Мандельштам в одном из стихотворений, «зрячей стопой». Потому что, когда человек идет, опираясь ногами о землю, он начинает осваивать пространство. Если он лежит в расслаблении на диване в перинах или плавает в ванне, это сделать труднее.
Итак, человек должен увидеть мир, обжить его, и, наконец, понять. В этом восьмистишии представлены все три этапа.
Онтологические бирюльки
В игольчатых чумных бокалах
Мы пьем наважденье причин,
Касаемся крючьями малых,
Как легкая смерть, величин.
И там, где сцепились бирюльки,
Ребенок молчанье хранит,
Большая вселенная в люльке
У маленькой вечности спит.
Бирюльки — крючок и маленькие кусочки дерева — игра, требующая усидчивости, интеллекта, внимательности: надо понять, какую деталь тащить. Жизнь и смерть так переплетены, как бирюльки в детской игре. Нам кажется, что это смерть, а вдруг это жизнь? Нам кажется, что это жизнь, а она мертвая. И что нам остается делать? Пировать.
Это отсылка к Пушкину, который отвечает на вопрос, что делать, когда каждый день смерть стучит нам в окно могильной лопатой. Можно, конечно, впасть в уныние или уйти в какой-то ужасный разгул, забыв о том, что ты человек. Нет, самый достойный ответ на чуму сплетенной жизни и смерти — поэзия.
И вот что еще: там, где сцепились бирюльки, где жизнь и смерть переплелись корнями так, что их не разделить, ребенок хранит молчание. Мир как бы пребывает в колыбели у Бога, у вечности. Поэтому в мире не страшно: Бог-то в курсе всего, что происходит.
Поэт — ученик Божий
И я выхожу из пространства
В запущенный сад величин,
И мнимое рву постоянство
И самосознанье причин.
И твой, бесконечность, учебник
Читаю один, без людей —
Безлиственный, дикий лечебник,
Задачник огромных корней.
Как можно выйти из пространства? И что это за бесконечность? В работах о Мандельштаме предлагаются разные объяснения. Некоторые филологи говорят, что это вдохновение. Другие — что время, мир, дурная бесконечность… то есть ощущение, приобретенное поэтом в ссылке… Нет, непохоже.
На мой взгляд, выйти за пределы пространства можно только к Тому, Кто это пространство сотворил. Человек совершает метафизический переход из телесного состояния в духовное, из мира к Богу.
Но заметьте, что он это делает не раньше, чем это пространство изучил, понял, обжил, по-настоящему себя в нем ощутил.
Куда он попадает? В запущенный сад величин, то есть в какой-то космический сад, вероятно, Эдемский. Почему запущенный? Потому что человека там давно, со времени изгнания Адама, не было.
Поэт-Адам возвращается и начинает выпалывать сорняки: постоянство и причинно-следственные связи. Например, нас приучили к тому, что, если я бросаю монету, то она падает на землю. Миллион раз бросил — миллион раз упала. Но кто сказал, что если в миллион первый раз я ее подброшу, то она не улетит? А это значит, что постоянства нет. И никакой причинно-следственной связи тоже.
Однажды, будучи студенткой, я предложила подругам выпить много кофе и заниматься латинским языком. Мы выпили бадью очень крепкого кофе и тут же заснули, потому что разные вещества на разных людей по-разному действуют. И когда мы что-то лечим, то лечим не диагноз, а конкретного человека. Все организмы разные, что уж говорить про мироздание в целом.
И твой, бесконечность, учебник
Читаю один, без людей —
Поэт становится учеником Божьим. Этот Адам уже умный, он пришел в сад после длинного пути. И поэтому он не плодов каких-то хочет, а познания Бога.
А делает он это один он, потому что такое дело можно провернуть только в одиночку, в непосредственном предстоянии Творцу.
Подготовила Наталия Щукина по лекции «Личность, бытие, Бог в поэзии Мандельштама»