Русская религиозная мысль — уникальный феномен мировой культуры. Мысль свободная, своеобразная, художественно прекрасная, глубокая в своей сути, современная, не боящаяся современности, берущаяся за самые смелые вопросы — от атеизма до секса, не прячущаяся в богословском гетто, истинно христианская — и главное, живущая целым «кустом», не будучи делом одного человека (как Паскаль или Кьеркегор), а проявившаяся в десятках людей — это действительно уникальный феномен, сравнимый разве только с русской литературой (не зря они шли рука об руку, часто до растворения друг в друге). Давайте посмотрим главные его образчики.
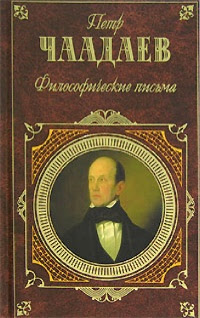 Чаадаев — может быть, первый по-настоящему великий русский философ, писавший, впрочем, по-французски. Сам он называл себя «христианским философом».
Чаадаев — может быть, первый по-настоящему великий русский философ, писавший, впрочем, по-французски. Сам он называл себя «христианским философом».
Судьба философии Чаадаева, «официального сумасшедшего Империи», странна. «Философические письма», главный труд Чаадаева, не был прочитан: напечатано было всего одно Письмо (из восьми): царская Россия видела в Письмах оскорбление себе. Советская власть не печатала Чаадаева из-за его религиозности. Прочитаны ли Письма сегодня?
При этом Чаадаев — отец русской философии. Первое Письмо вызвало настоящий тектонический сдвиг в русском обществе: Россия проснулась. С трудом понимают масштаб Чаадаева: вся последующая русская мысль (не до наших ли дней) суть просто развитие его мысли. Раскол западников и славянофилов есть раскол его мысли. Западники взяли у него собственно идею Запада как своего рода единственной «настоящей» культуры, идею прогресса, но отбросили чаадаевское христианство. Славянофилы взяли у Чаадаева его веру во Христа, но отгородились от Запада. Борьба двух партий происходила на сцене, подаренной Чаадаевым. Обе партии отвечали на вызов Чаадаева: Россия вне истории, а надо быть в истории, строить Царство Божье: этот вызов будет по-разному реализован: Россия и есть последний оплот Царства; нет, России надо войти в семейство Европы; да, Россия вне истории — и в этом ее исторический шанс, ее история — впереди; мы будем строить Царство, но без Бога. Так, история России последних двух веков может быть понята как комментарий к чаадаевским письмам. Чаадаев, обвиняя Россию в неисторичности, в безмирности, вводит ее в историю и мир.
Однако добавим снова: Письма прочитаны толком не были. Слишком скоро царь объявляет философа безумцем, слишком скоро славянофилы обиделись за Россию, слишком скоро западники обратились к Западу, и — как оказалось, слишком суетно — и сколь кроваво Россия станет одним из главных сюжетов новейшей истории. Строгая ясная мысль Чаадаева потерялась за вызванным ей взрывом.
Чаадаев — христианский философ. Он строит христианскую философию истории. Сказать «Россия вне истории» — то же самое, что «Россия вне христианства», ибо христианство — настоящая история. Но почему? «По плодам их узнаете их». Евангелие — не слова, а программа действий. Евангелием надо жить, или: следует евангелизировать жизнь. Действенно ли христианство? Вошло ли оно в действительность? Исполняется ли воля Божья? Накормлены ли голодные? Исцелены ли больные? Нашел ли странник приют? Навестили ли заключенного? Вот критерии Страшного суда. Вот что следует делать. Исполнение этой «программы Христа» и есть настоящая история (а не череда царьков и войн). Быть в истории: исполнить Евангелие, чтоб оно было не словом, а делом. Вот задача.
Или иначе: социальная природа христианства. Христиане — не одиночки, а община. Церковь — новое общество новых людей, общество, построенное из любви. Евангелие должно дать общественные плоды (этой социальной обеспокоенностью Чаадаева будет проникнута вся русская культура и история). «Приблизилось Царство Божье»
А в России тем временем — крепостное право. Большинство народа («христианского народа») сведено к скоту властями («христианскими властями»). Это просто значит, что Евангелие не исполнено. Это значит, что Россия в историю не вошла. Вот вызов Чаадаева: евангелизировать действительность; в частности — русскую.
 Мысль Чаадаева с его заветом евангелизировать социальную действительность распалась на западничество и славянофильство. Воссоединилась эта мысль — на новом уровне — у Владимира Соловьева, «христианского западника». «Оправдание добра»— многие считают эту книгу лучшей у Соловьева. Действительно, она заслуживает такой оценки: одна из самых продуманных этических систем в мировой философии, блестящая защита добра, добра подлинного, действенного, не личного только, но и социального.
Мысль Чаадаева с его заветом евангелизировать социальную действительность распалась на западничество и славянофильство. Воссоединилась эта мысль — на новом уровне — у Владимира Соловьева, «христианского западника». «Оправдание добра»— многие считают эту книгу лучшей у Соловьева. Действительно, она заслуживает такой оценки: одна из самых продуманных этических систем в мировой философии, блестящая защита добра, добра подлинного, действенного, не личного только, но и социального.
«Оправдание добра» имеет три раздела. В первом Соловьев разбирает общие основания нравственности, исходя от человеческой природы. Проявление Добра «вниз» — стыд, как знак не зла, но внеположности человека природе. Добро «по горизонтали» — жалость. Добро «вверх» — благоговение, ощущение того, что выше человека. Из этих общих построений Соловьев строит систему добродетелей и разбивает ложные этические принципы. Во втором разделе «Оправдания добра» Соловьев разбирает этику «с точки зрения Бога»: безусловность, единство и действительность нравственности. Наконец, в третьем, завершающем разделе «Оправдания добра» Соловьев рассматривает этику в историческом и общественном измерении: личность и общество, национальный вопрос, правосудие, экономика, право, война и т. п.
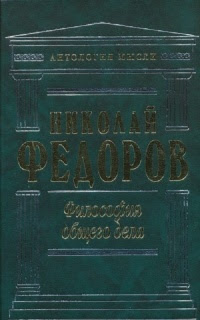 Николай Федоров — выдающийся русский мыслитель, один из самых «странных» представителей русской культуры: аскет, принципиально не продававший своих трудов, всю жизнь проработавший библиотекарем, «святой» — как думали многие; собеседник Достоевского, Толстого, Соловьева, существенно на них повлиявший. Никто, пожалуй, так радикально, так дерзновенно — или «глупо», если угодно, как Федоров, не восприняли задачу ввести Евангелие в жизнь. Главной темой Федорова, его мукой была трагедия человеческой разъединенности. «Словами», проповедями ее не победишь. Нужно «общее дело», которое объединит человечество. Предел разъединения — смерть, а именно — смерть всех отцов, ведь сыновья живут за счет смерти отца (эта мысль сближает Федорова с Фрейдом). «Общее дело», таким образом, должно заключаться в воскрешении всех отцов — опять же не как «грезы», а как конкретного действия: силами наукотехники должно воскресить всех мертвых. «Общее дело» — богословие прямого действия, христианство не как «греза», а как «проект». Техника как средство всеобщего воскресения, Апокалипсис через технику — вряд ли можно придать технике больший богословский статус. «Философией общего дела» назвали тексты Федорова его ученики (сам он не печатался и отвергал идею авторского права).
Николай Федоров — выдающийся русский мыслитель, один из самых «странных» представителей русской культуры: аскет, принципиально не продававший своих трудов, всю жизнь проработавший библиотекарем, «святой» — как думали многие; собеседник Достоевского, Толстого, Соловьева, существенно на них повлиявший. Никто, пожалуй, так радикально, так дерзновенно — или «глупо», если угодно, как Федоров, не восприняли задачу ввести Евангелие в жизнь. Главной темой Федорова, его мукой была трагедия человеческой разъединенности. «Словами», проповедями ее не победишь. Нужно «общее дело», которое объединит человечество. Предел разъединения — смерть, а именно — смерть всех отцов, ведь сыновья живут за счет смерти отца (эта мысль сближает Федорова с Фрейдом). «Общее дело», таким образом, должно заключаться в воскрешении всех отцов — опять же не как «грезы», а как конкретного действия: силами наукотехники должно воскресить всех мертвых. «Общее дело» — богословие прямого действия, христианство не как «греза», а как «проект». Техника как средство всеобщего воскресения, Апокалипсис через технику — вряд ли можно придать технике больший богословский статус. «Философией общего дела» назвали тексты Федорова его ученики (сам он не печатался и отвергал идею авторского права).
Разумеется, всё это многим кажется бредом. Ответим на это, что делом философии является все же мышление, постановка вопросов, довольно часто в форме мифа (Платон — чтобы далеко не ходить). Заслуга Федорова состоит в самой постановке вопроса отношений христианства и техники, в частности — эсхатологии и техники, христианства как дела, действия, действительности, задачи, проекта, а не болтовни. С этим связана нравственная роль науки в современном обществе: общество грешно и наука как часть общества — служит греху; отсюда задача нравственной перестройки общества, обращения сил науки на «регуляцию природы», превращение «орудий разрушения» в «орудия созидания». Вообще Федоров затрагивал множество разных тем: христианский Бог — не одиночка, а Троица, социальность — аспект Божества, христианское богословие требует определенной социальности — братства по образу Троицы; Федоров — ярый противник авторских прав и весьма современен здесь; и т. д. и т. д.
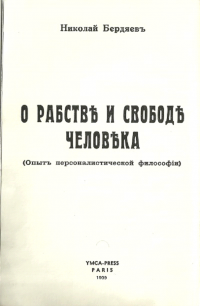 Николай Бердяев — великий русский философ, столп русского религиозного возрождения, один из главных свидетелей Православия на Западе. Начинал как марксист, всегда оставался левым социальным мыслителем (все та же задача проведения Евангелия в жизнь). Один из основоположников экзистенциализма и персонализма. В центре бердяевской мысли, раненной злом мира, но никогда не теряющей эсхатологическую надежду и устремленность, стоят Бог, человек и свобода в их неразрывной связи. Человеческая личность, погруженная в пучину обыденности, пошлости, зла, насилия, рвется к Богу в творческом порыве и только так обретает свободу. Его книги совсем не «академичны», их отличает экспрессионизм, пламенный, эмоциональный, крайне личный и заинтересованный тон.
Николай Бердяев — великий русский философ, столп русского религиозного возрождения, один из главных свидетелей Православия на Западе. Начинал как марксист, всегда оставался левым социальным мыслителем (все та же задача проведения Евангелия в жизнь). Один из основоположников экзистенциализма и персонализма. В центре бердяевской мысли, раненной злом мира, но никогда не теряющей эсхатологическую надежду и устремленность, стоят Бог, человек и свобода в их неразрывной связи. Человеческая личность, погруженная в пучину обыденности, пошлости, зла, насилия, рвется к Богу в творческом порыве и только так обретает свободу. Его книги совсем не «академичны», их отличает экспрессионизм, пламенный, эмоциональный, крайне личный и заинтересованный тон.
«О рабстве и свободе человека. Опыт персоналистической философии» — одна из главных книг Бердяева, «самая радикальная, самая духовно революционная из моих книг», как характеризует сам философ. Рабство и свобода — можно сказать, что Бердяев ни о чем больше, в общем-то, и не писал. Рабство: бессмыслица, пошлость, насилие, государство, необходимость, силы мира сего, порабощающие человека. Свобода — суть и цель человеческой жизни, суть мировой драмы, суть Благой Вести.
Бердяев в «Самопознании» характеризует книгу «О рабстве и свободе человека» как одну из «наиболее значительных», «очень крайнюю, и это соответствует крайности моей мысли и острой конфликтности моего духовного типа»; в ней «некоторые основные мои мысли выражены с наибольшей остротой».
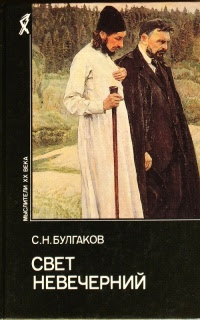 Священник Сергий Булгаков — тоже начинавший как марксист (и был известен как марксистский политэконом), экономист, социальный философ, метафизик, богослов.
Священник Сергий Булгаков — тоже начинавший как марксист (и был известен как марксистский политэконом), экономист, социальный философ, метафизик, богослов.
«Свет невечерний. Созерцания и умозрения» — одна из центральных книг русской религиозной философии, вершина философского периода творчества Булгакова, следующие за «Светом невечерним» будут носить уже богословский характер. Первая часть «Света невечернего» посвящена вопросу «как возможна религия как таковая?» — блестящий, точный, в кантовском духе анализ феномена религии. На этом философском фундаменте через свой личный опыт обращения (и это принципиальный ход — без личного опыта религия немыслима, Бог открывается только личности, а не «рассуждению») Булгаков строит свою систему: Божественное Ничто (апофатическое богословие), мир (космология) и человек (антропология).
 Священник Павел Флоренский — один из лидеров русского религиозного Ренессанса, да и всей современной православной мысли. Богослов, философ, поэт, культуролог, искусствовед, математик, изобретатель — всего и не перечислишь.
Священник Павел Флоренский — один из лидеров русского религиозного Ренессанса, да и всей современной православной мысли. Богослов, философ, поэт, культуролог, искусствовед, математик, изобретатель — всего и не перечислишь.
Флоренского кто-то очень метко назвал «русским Леонардо». Действительно, универсализм, эстетизм, платонизм Флоренского в удивительно ярком единстве, его интерес к природе, наукам, всемирный размах его мысли — все это типичные черты Возрождения (которое, по иронии, Флоренский принципиально отвергал). Сюда же относится «дилетантизм» Флоренского: его лингвистических анализов, «его науки», где химия переходит в алхимию, астрономия в астрологию, где ботаника лишь повод для размышлений о «горнем», — всё это родовые признаки итальянского Ренессанса. Та же любовь к древности и негодование по отношению к современности, перевес риторики над диалектикой, склонность к «эзотеризму». Этот «дилетантизм» (разбросанность, эскизность) Возрождения, который свойственен и Флоренскому, хорошо объяснил Бибихин: Возрождению рисовались слишком большие перспективы, чтобы заниматься «деталями». Они проектировали Европу: строить ее будут другие поколения. Так же и Флоренский проектировал новый дом для православной культуры, намечал подходы и цели: строить этот новый дом должны мы.
Мысль Флоренского в плане сопоставлений интересна не только своим тождеством с Ренессансом. Флоренский своим интересом к личности (экзистенции), укорененности в Троице (бытии), интересом к языку («язык — дом бытия»), отказом от наукообразности просвещенческой философии и ее острой критикой (деструкция философской традиции), самим своим письмом (постмодерн) предвосхитил основные линии философии XX в.
Но нам Флоренский интересен, прежде всего, своей концептуализацией православной веры. Удивительное богатство литургического наследия Церкви, святоотеческого богословия, свидетельств аскетики и мистики, с учетом всего массива современной культуры, преобразуется Флоренским в небывалый синтез. Со времен Византии мысль Церкви не была столь смелой и свободной.
«Столп и утверждение истины» — центральная книга Флоренского и во многом всего русского религиозного возрождения. «Столп и утверждение истины» — гениальная попытка тематизации основных истин христианской веры. Принципиальна поэтому форма, избранная Флоренским, — письма Другу. Только в опыте, личном обращении, в ситуации встречи возможно говорить о Боге.
«Столп и утверждение истины» можно разделить на две части. Первая рисует ситуацию человека перед отсутствием истины, поиска ума опоры себе. Твердой истины не оказывается, все плывет. Флоренский рисует ад сомнения, мышеловку ума, вечное кружение в пустоте. Только скачком ум может прийти к Троице — скачком безумной веры. Если истина есть, то она — Троица. Пожалуй, это главное достижение книги: постановка тринитарного мышления в основу философии. Действительно, если философия хочет быть православной, то в основе своей она должна иметь немыслимую бездну Троицы (вот, кстати, подлинное следование святоотеческому богословию). Для описания такого мышления Флоренский вводит термин «антиномия», которому суждено будет сыграть определяющую роль в христианской философии. Антиномическое мышление — мышление в противоречии, мышление, не «снимающее» конкретность, реальность в абстракции, твердо держащиеся того, что есть — несхватываемого бытия. Таким образом Флоренский наметил магистральный путь православной мысли в XX веке: скажем, Харт или Зизиулас не будут повторять ни тезисов, ни доказательств Флоренского, но вот эти тринитаризм и антиномизм мышления останутся.
Вторая часть «Столпа и утверждения истины», утвердившись в безопорности Триличной Истины, раскрывают первопонятия христианской философии: Триединство, антиномия, грех, геенна, Творение, София, любовь, дружба, ревность (как видите, своеобразная подборка). Розанов справедливо называл «Столп и утверждение истины» «густой книгой». Можно не соглашаться с аргументацией или самими мыслями Флоренского, но «Столп и утверждение истины» не может не поражать исключительным богатством материала (не говоря про литературное совершенство). Математика и лингвистика, литургические богатства Церкви и писания Св. Отцов, философы — древние и современные, художественная литература — это и многое другое вошло в ткань «Столпа и утверждения истины» Флоренского.
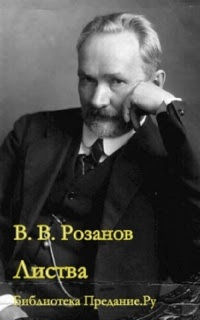 Василий Розанов — вероятно, самый парадоксальный, самый смелый и безусловно самый литературно одаренный философ Русского Ренессанса. Розанова качало от полного антихристианства (и сложно найти другого столь антихристианского философа) до проникновенной молитвенной, подлинно христианской прозы. Главное: Розанов — крайне глубокий мыслитель христианского влияния на культуру (на современную сексуальность, семью, политику и пр.), а на глубине — несмотря на всю свою внешнюю суетливость и «скандальность» — тихая спокойная благодарственная мысль перед Богом.
Василий Розанов — вероятно, самый парадоксальный, самый смелый и безусловно самый литературно одаренный философ Русского Ренессанса. Розанова качало от полного антихристианства (и сложно найти другого столь антихристианского философа) до проникновенной молитвенной, подлинно христианской прозы. Главное: Розанов — крайне глубокий мыслитель христианского влияния на культуру (на современную сексуальность, семью, политику и пр.), а на глубине — несмотря на всю свою внешнюю суетливость и «скандальность» — тихая спокойная благодарственная мысль перед Богом.
Главный жанр Розанова — «листья», короткие зарисовки на самые разные темы, «что в голову придет». «Листва» — книга, где мы собрали все произведения Розанова, написанные в стиле «опавших листьев» (афоризмов, дневниковых записей).
«Ты не прошла мимо мира, девушка… о, кротчайшая из кротких… Ты испуганным и искристым глазком смотрела на него. Задумчиво смотрела… Любяще смотрела… И запевала песню… И заплетала в косу ленту… И сердце стучало. И ты томилась и ждала. И шли в мире богатые и знатные. И говорили речи. Учили и учились. И все было так красиво. И ты смотрела на эту красоту. Ты не была завистлива. И тебе хотелось подойти и пристать к чему–нибудь. Твое сердце ко всему приставало. И ты хотела бы петь в хоре. Но никто тебя не заметил, и песен твоих не взяли. И вот ты стоишь у колонны. Не пойду и я с миром. Не хочу. Я лучше останусь с тобой. Вот я возьму твои руки и буду стоять. И когда мир кончится, я все буду стоять с тобою и никогда не уйду. Знаешь ли ты, девушка, что это — «мир проходит», а — не «мы проходим». И мир пройдет и прошел уже. А мы с тобой будем вечно стоять. Потому что справедливость с нами. А мир воистину несправедлив».
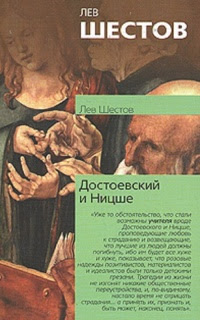 Лев Шестов — великий русский философ, один из основных представителей (и основателей) экзистенциализма. Его называют «антифилософом»: главной стремлением Шестова было вырваться из пут сознания, считающее, что оно — основание мира, из схем и абстракций разума, закрывающих реальность. Борьба с «самоочевидностями» — очевидностью смерти, страдания, того, что мир навязывает человеку. Для него они воплощались в рационализме и гуманистической морали. Он не мог идти по основной магистрали философии, чтобы снова не впутаться в дискурс мира сего: он выбирает формы афоризма и комментария. Главное для Шестова — выбраться из плена иллюзий «общеобязательных суждений» — к Богу. Поэтому он выбирает объектом своей философии опыт людей, стоявших перед Господом: Достоевский, Паскаль, Ницше, Кьеркегор. Шестов захвачен стихией Писания: особенно пророками и ап. Павлом. Именно Библия, бросающая вызов миру, с ее воплем к Богу и ответом Бога на него — главное свидетельство того, что «самоочевидности» — страшная иллюзия, обман.
Лев Шестов — великий русский философ, один из основных представителей (и основателей) экзистенциализма. Его называют «антифилософом»: главной стремлением Шестова было вырваться из пут сознания, считающее, что оно — основание мира, из схем и абстракций разума, закрывающих реальность. Борьба с «самоочевидностями» — очевидностью смерти, страдания, того, что мир навязывает человеку. Для него они воплощались в рационализме и гуманистической морали. Он не мог идти по основной магистрали философии, чтобы снова не впутаться в дискурс мира сего: он выбирает формы афоризма и комментария. Главное для Шестова — выбраться из плена иллюзий «общеобязательных суждений» — к Богу. Поэтому он выбирает объектом своей философии опыт людей, стоявших перед Господом: Достоевский, Паскаль, Ницше, Кьеркегор. Шестов захвачен стихией Писания: особенно пророками и ап. Павлом. Именно Библия, бросающая вызов миру, с ее воплем к Богу и ответом Бога на него — главное свидетельство того, что «самоочевидности» — страшная иллюзия, обман.
Трудно сказать, какая книга у него главная — другие сказали бы «Апофеоз беспочвенности» или «Афины и Иерусалим», а мы выберем одну из ранних, где блестящий литературный дар и основные, самые радикальный темы Шестова представлены во всей красе — «Достоевский и Ницше». Достоевского и Ницше часто сравнивают. Это и понятно: какими бы разными ни были их пути, оба не боялись дойти до края, посмотреть в бездну. А это всегда значит: приблизиться к Богу. «Смерть Бога», провозглашенная Ницше, по очень многим толкованиям (Шестова в том числе) — была смертью новоевропейского Бога — Бога гуманистической морали, удобного Бога системы, Бога философии — «нравственного и метафизического Бога», а не Бога Писания и Церкви. Достоевский шел по этому же пути (когда, например, говорил, что выберет Христа, а не истину — то есть Живого Бога, а не метафизическое суждение).
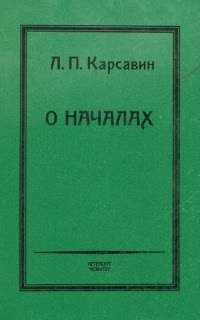 «О Началах. Опыт христианской метафизики» — центральная книга Карсавина, где он дает основу своей системы. Заглавие, совпадающее с заглавием главного труда Оригена, помогает понять характер книги. Карсавин всегда хотел развивать свою философию в позднеантичной и средневековой традиции, откуда и постоянная стилизация карсавинских текстов под Средневековье. Но традиция, которую имеет в виду Карсавин, — скорее не магистральный путь христианского богословия, а его маргинальные ветви — христианский гностицизм Александрийцев, свободное философствование Григория Нисского и Максима Исповедника, продолжатели этой традиции на Западе — Кузанец, Беме. По существу же «О началах» Карсавина — вариант философии всеединства. Здесь Карсавин выдвигает свою концепцию творения — третий путь между пантеизмом и дуализмом Творца и твари. Бог творит все из ничего, но тем самым сам акт творения есть проявление Бога в ином: Бог, творящий все из ничего, Сам есть Всё. Карсавин защищает рациональную основу веры и богопознания: мистика, как он считает, никоим образом не есть иррационализм или агностицизм. Карсавин в «Началах» последовательно разбирает природу религиозного акта, достоверность боговедения и веру как основу знания, всеединство твари, Истину, Всеблагость и совершенное Триединство Творца судьбы творения, страдание, смерть и грех, природу зла, Боговоплощение и приснодевство Марии, чудо, таинства и Церковь.
«О Началах. Опыт христианской метафизики» — центральная книга Карсавина, где он дает основу своей системы. Заглавие, совпадающее с заглавием главного труда Оригена, помогает понять характер книги. Карсавин всегда хотел развивать свою философию в позднеантичной и средневековой традиции, откуда и постоянная стилизация карсавинских текстов под Средневековье. Но традиция, которую имеет в виду Карсавин, — скорее не магистральный путь христианского богословия, а его маргинальные ветви — христианский гностицизм Александрийцев, свободное философствование Григория Нисского и Максима Исповедника, продолжатели этой традиции на Западе — Кузанец, Беме. По существу же «О началах» Карсавина — вариант философии всеединства. Здесь Карсавин выдвигает свою концепцию творения — третий путь между пантеизмом и дуализмом Творца и твари. Бог творит все из ничего, но тем самым сам акт творения есть проявление Бога в ином: Бог, творящий все из ничего, Сам есть Всё. Карсавин защищает рациональную основу веры и богопознания: мистика, как он считает, никоим образом не есть иррационализм или агностицизм. Карсавин в «Началах» последовательно разбирает природу религиозного акта, достоверность боговедения и веру как основу знания, всеединство твари, Истину, Всеблагость и совершенное Триединство Творца судьбы творения, страдание, смерть и грех, природу зла, Боговоплощение и приснодевство Марии, чудо, таинства и Церковь.
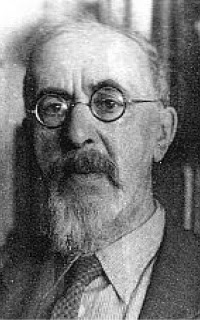 «Непостижимое. Онтологическое введение в философию религии» — главная книга Франка, шедевр религиозной философии. Гениальная концептуализация апофатического Боговедения. Целостная система христианской философии: гносеология, антропология, онтология, богословие. И главное — Непостижимое не как черная дыра, а — полнота реальности, то, что превыше знания, что ближе к нам, чем мы сами, то, что дает бытие сущему, само не являясь бытием.
«Непостижимое. Онтологическое введение в философию религии» — главная книга Франка, шедевр религиозной философии. Гениальная концептуализация апофатического Боговедения. Целостная система христианской философии: гносеология, антропология, онтология, богословие. И главное — Непостижимое не как черная дыра, а — полнота реальности, то, что превыше знания, что ближе к нам, чем мы сами, то, что дает бытие сущему, само не являясь бытием.
Франк медленно, «кропотливо» (так и хочется сказать: «по-немецки»; Франк — один из немногих русских философов, вполне освоивших классическую школу философии) постигает «непостижимое» на разных «уровнях». Непостижимое вписано в малейшую складку реальности.
Интересны историко-философские параллели. Франк осознанно следует святоотеческому богословию в его апофатической традиции и его западной трансляции в лице Николая Кузанского. Очевидно преемство с русской философией, школой всеединства. «Техника» остается «немецкой» (классического периода). Тождество мистики и рациональности — вечная основа философии, разорванное лишь в Новое время. Бросается в глаза родство с основными течениями западной философии: поворотом к экзистенции, диалогу как фундаментальной категории. Исход из экзистенции при приоритете онтологического интереса (причем бытие не понимается как сущее, оно — не-сущее) делает философию Франка принципиально тождественной философии Хайдеггера. Все эти влияния, осознанные и неосознанные, совпадения предстают в «Непостижимом» в удивительно цельном, продуманном и самобытном синтезе.
 «Смысл жизни» — главная книга Евгения Трубецкого, одна из центральных в русской философии. «Смысл жизни» вобрал всё лучшее в мысли Трубецкого: искание истины, рациональный путь к Богу, отточенность и четкость формулировок, ясность построений, живое, горячее, художественное письмо.
«Смысл жизни» — главная книга Евгения Трубецкого, одна из центральных в русской философии. «Смысл жизни» вобрал всё лучшее в мысли Трубецкого: искание истины, рациональный путь к Богу, отточенность и четкость формулировок, ясность построений, живое, горячее, художественное письмо.
Трубецкой мыслит в двух важных контекстах: контексте человеческой экзистенции перед лицом мировой бессмыслицы и контексте историческом — начала XX века, крушения гуманистической цивилизации Запада: «Внешним поводом настоящего труда являются мучительные переживания мировой бессмыслицы, достигшие в наши дни необычайного напряжения. […] Потребность ответить на вопрос о смысле жизни в такие эпохи чувствуется сильнее, чем когда-либо. Да и самый ответ при этих условиях приобретает ту выпуклость и рельефность, которая возможна только в дни определенного, резкого выявления мировых противоположностей. Где — глубочайшая скорбь, там и высшая духовная радость. Чем мучительнее ощущение царствующей кругом бессмыслицы, тем ярче и прекраснее видение того безусловного смысла, который составляет разрешение мировой трагедии».
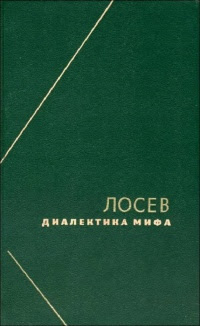 «Диалектика мифа» — одна из центральных работ Лосева. Последняя в его «восьмикнижии», она и стала причиной его ареста. «Диалектика мифа» представляет собой попытку дать дефиницию понятию «миф», но разрастается в целую философскую систему.
«Диалектика мифа» — одна из центральных работ Лосева. Последняя в его «восьмикнижии», она и стала причиной его ареста. «Диалектика мифа» представляет собой попытку дать дефиницию понятию «миф», но разрастается в целую философскую систему.
Вообще говоря, можно спросить, верна ли собственно лосевская дефиниция мифа. Не своей дефиницией мифа важна эта книга. «Диалектика мифа» важна прежде всего некоторыми своими действительно тонкими различениями, крайне интересными рассуждениями. Кроме того, читатель встретит ряд блестящих с литературной точки зрения мест. Это знаменитый «агон» с Розановым, «анализ» семиотики готического храма, рассуждение о цветах (в смысле цветах спектра), о восприятии Неба как Чаши (кто скажет, имеет ли этот выпад против астрономии философское значение? Однако он без сомнения прекрасен и «что-то ловит»), потрясающее описание «мифа ньютоновской вселенной», анализ чуда, зарисовки космоса — рельефного, объемного, фигурного. «Диалектика мифа» Лосева производит странное впечатление, однако прочитать ее стоит.




