«Христианство за семейные ценности, современный мир разрушает семью», не правда ли? Только вот «современный мир» есть ведь мир (пост)христианский, «семейные ценности» общи для всех культур, а христианство все же ярко выделено как религия «монашества, девства», чего-то, согласитесь, «антисемейного». Давайте же почитаем 8 неординарных книг на эту животрепещущую тему.

«Эстетическая значимость брака» — один из разделов «Или — или» Кьеркегора, может быть, лучшая апология брака. Часто брак (в его повседневности, тривиальности, «халате и борще») противопоставляют эротизму. Задача Кьеркегора — доказать, что брак — и именно христианский брак — есть высшая форма эротизма:
«Те, у кого есть вкус к романтической любви, не особенно заботятся о браке, с другой же стороны, к сожалению, столь многие браки продолжают заключаться без ощущения этой глубинной эротики, которая поистине является прекраснейшей стороной чисто человеческой экзистенции. Христианство непоколебимо придерживается супружества. Следовательно, если супружеская любовь не способна таить в себе всю эротику первой любви, христианство вовсе не представляет собой стадию высшего развития человеческого рода, — и конечно же, тайный страх перед таким разрывом в значительной степени повинен в том отчаянии, которое отзывается эхом в новейшей лирике — как в стихах, так и в прозе».
Если христианство есть нечто высочайшее, если оно есть абсолютная истина и так упорствует, так акцентирует сферу пола и брака, с одной стороны; а с другой, — если брак имеет своей материей эротику (а это очевидно), то высочайшим доказательством истинности христианства будет абсолютный моногамный брак, не потерявший эротику первой любви.

Может быть, не было сильнейшего апологета семьи, чем Розанов, и именно апологета «халата и борща». Роды, младенец, кухня, супружеская и родительская нежность, как нельзя более «бытовая» — вот святыня Розанова. Семья и есть Святое: Бог — Творец, Родитель жизни, и род (пол, семья, брак) есть как бы Его продолжающееся присутствие среди нас. Нет ничего святее семьи — супружества, зачинающего младенца, — и вот именно христианство опрокинуло святыню семьи. «Бессемейные» Евангелие и монашество — и тем самым вся христианская цивилизация обесценила семейные ценности, то есть самую Святыню. Крайне нетривиальная критика христианства: критика именно с религиозных, именно с семейных позиций. Брак, семья святы, а христианство эту святость попирает, и более того — если христианский аскетизм подрывает святость брака, то, таким образом, «современный разврат» есть эффект христианского аскетизма. Об этом читайте в «Семейном вопросе в России» и близлежащих к нему книгах Розанова:
«Вот факт: в Китае, у негров, у татар, цыган понятие супружества, любви, отношения полов — чище и целомудреннее, нежели у европейских народов. “Все чисто и мило у них”, в противоположность нам, и специально только в линии одного брака, только семьи. Какое варварство нравов во всех остальных сферах: эти казни через распарывание живота, эта еда конины, это вечное конокрадство — отвратительны и ужасны. Да, но мы углубляемся далее, мы входим внутрь их хижин, шатров: “все чисто и мило” тут. Тут нет, по-видимому, или вовсе не слышно, о сюжетах “Власти тьмы” и тому подобных прелестях. Вступаем мы в европейский дом — и начинается скверна; вступаем у них в шатры и домы — тут начинается чистота».
«Семья в мире? …семья у христиан?.. Дело в том, что “в мире”-то она хороша, но именно у христиан гадка ли, ей ли гадко, но вообще точно ее кто “сглазил”, навел на нее “порчу”… У христиан в высшей степени редка счастливая семья и в высшей степени редка благоустроенная семья. Все к ней стремятся, ее жаждут… “Началось” — и “плохо”. Что? Как? Почему? “Случаи”, — вы скажете. Но “случаи” были с начала мира, а семья плоха по преимуществу у христиан».
«С распутыванием семейных узлов, именно с размышлением, отчего в Европе все так трудно в семье, около семьи, по поводу семьи, — мы входим в завязь глубочайших философских проблем. И вопрос практический становится религиозным и метафизическим, — который тем интереснее делается, содержательнее, тем сильнее волнует, чем зорче и долее мы к нему приглядываемся…»
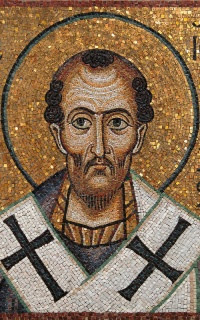
Итак, по Розанову, именно христианство — в монашестве — попирает святость брака, разрушает семью. Обратимся к монаху и апологету монашества — но и апологету брака! — святителю Иоанну Златоусту. «Утопия Златоуста» — не бежать в монастырь из мира, но в мире жить так, как в монастыре. А как живут в монастыре? — в «великой благодати» равенства и общности имуществ. Все должно быть общим — как у ангелов, как до грехопадения, как у первых христиан, как у монахов — так надо жить всем христианам. Но — учит святитель в 20-й беседе на Послание апостола Павла к Ефесянам — брак есть любовь, то есть — маленькая церковь, маленький монастырь. Ибо как монахи находятся в «великой благодати» и «великом равенстве», так и супруги: все у них общее, начиная с их тел. Спецификум христианства, таким образом, не в отвержении секса, как думают одни, не в защите семейных ценностей, как думают другие, — а вот в этой любви, когда всё у всех общее, как у монахов, как у супругов — вплоть до тел, денег, жизни. Златоуст учит нежности к жене, говорит о ласковых словах ей, уважении к ней, о «предпочтении» ее красоты, о телесном единстве с ней, о том, что нет «моего и твоего»:
«С великой любовью нужно говорить ей [жене]: мы взяли тебя, детушка, в спутницы жизни и сделали тебя своей общницей в том, что всего честнее и необходимее. Лучше, если прежде этого ты поговоришь с ней о любви, потому что ничто так не способствует к убеждению слушателя в том, чтобы он принял слова наши, как уверенность его, что они говорятся с великой любовью. Она, может быть, будет говорит: ты еще ничего не истратил на меня; я одеваюсь на свои деньги, которыми наградили меня родители. Но что ты говоришь, женщина, будто ты одеваешься еще в свое? Что несмысленнее таких слов? Не имеешь своего тела, а имеешь свои деньги? После брака вы уже не две плоти, но сделались «одна плоть», а имений два, а не одно? О, сребролюбие! Оба вы сделались одним человеком, одним живым существом, а ты все говоришь: это мое? От дьявола привнесено это проклятое и пагубное слово. Все, что гораздо необходимее этого, Бог сотворил общим для нас, а это — не общее? Нельзя сказать: мой свет, мое солнце моя вода; все важнейшее — у нас общее, а деньги — не общие? Тысячекратно пусть погибнут деньги, или лучше не деньги, а душевные расположения, которые мешают разумно пользоваться деньгами, и побуждают предпочитать их всему. Между прочим, учи свою жену и этому, только с великой любовью. Так как увещание к добродетели само по себе заключает много тягостного, особенно для нежной и молодой девицы, то, когда будут разговоры о любомудрии, придумывай больше ласковых выражений, и в особенности исторгни из души ее понятия: «мое, твое». Если она скажет: мое, то скажи ей: что ты называешь своим? Я не знаю, я не имею ничего своего. Как ты говоришь: мое, когда все твое? Приласкай ее этими словами. Итак, говори: и я твой, детушка. В этом меня убедил Павел, который сказал: «Муж не властен над своим телом, но жена» (1 Кор 7:4). Если же я не имею власти над собственным телом, но — ты, то тем более — над деньгами. Научи ее никогда не говорит: мое, твое. И не просто зови ее, но с лаской, с честью, с большой любовью. Уважай ее, и она не будет нуждаться в уважении от других, не будет нуждаться в одобрении других, если будет пользоваться твоим (уважением и одобрением). Предпочитай ее всем, во всех отношениях, и в отношении красоты, и благоразумия, хвали ее».

Мы продвигаемся вперед диалектически: начав с кьеркегоровой истины христианского брака как высшей формы эротизма, мы противопоставили ей розановскую истину монашеского подрыва семьи, а ей — златоустовскую истину единства монашеского и супружеского «коммунизма». Златоусту же мы противопоставим святителя Григория Нисского, «отца отцов». Есть здесь ирония: столь ласковые слова о браке говорит несемейный Златоуст, а вот нечто неласковое о браке скажет женатый Григорий, впрочем, может быть, здесь то понятное обстоятельство, что романтизировать брак свойственно тем, кто брака не знает, а вот те кто его «хлебнул», к романтике не столь расположены. Итак, Григорий Нисский «О девстве», удивительно интересный трактат, жанр которого был весьма распространен в раннехристианские времена, — жанр увещевания к девству, избегания брака — жанр, забытый современными христианами с их «защитой семейных ценностей»:
«Дело в том, что мне кажется, по высшему и истинному разумению, что всякое зло в жизни, усматриваемое во всех делах и занятиях, не может иметь никакой власти над человеческой жизнью, если кто сам себя не подчинит неволе брачной жизни. Желание превосходить других, гордость, эта тяжкая страсть, которую, если кто назовет корнем всякого греховного терния, не погрешит в истине, получает начало более всего от брака. Ибо по большей части причина любостяжания – дети, а в славолюбии и честолюбии причина этого порока – род, когда честолюбец хочет показаться не ниже своих предков и считаться великим у потомков, желая, чтобы его потомство рассказывало о нем детям. Точно так же и прочие, какие ни есть, недуги душевные: зависть, злопамятство, ненависть и другие того же рода – имеют ту же причину». То есть начало греха — в браке, в стяжании денег и собственности. Девство обеспечивает прекращение споров о деньгах и собственности, то есть обеспечивает прекращение греха (то есть: Григорий поддерживат Златоуста в монашеском идеале «коммунизма», но поддерживает и Розанова в монашеском подрыве семьи). Причем Григорий Нисский противопоставляет девству не секс, а именно брак, именно семью, именно деторождение, этот фетиш консерваторов. Еще Григорий Нисский:
«Никто, впрочем, из сказанного нами не должен заключать, что мы отвергаем установление брака, ибо мы прекрасно знаем, что и он не лишен благословения Божия. Но поскольку в его защиту достаточно говорит общая природа человеческая, вложившая самопроизвольное стремление к нему во всех, кто через брак появляется на свет, а девство некоторым образом противоречит природе, то излишним был бы труд сочинять увещания и побуждения к браку. Считая брак делом гнусным, своими поношениями брака он клеймит самого себя. Если «древо зло», как говорит где-то Евангелие (Мф 7:18), то и плод его, конечно, такой же – достойный древа; а если побег и плод брачного древа есть человек, то, конечно, поношение брака падает на того, кто его произносит». Понося брак, человек поносит человечество — Григорий Нисский понимал логику Розанова, и тем не менее:
«Через рождения получает начало тление, а положившие ему конец чрез девство поставили в себе предел смерти, воспретив ей чрез себя идти далее и представив собой некую границу между жизнью и смертью, удержали последнюю от продвижения вперед. Итак, если смерть не может прейти чрез девство, но в нем исчезает и прекращается, то ясно видно, что девство сильнее смерти» — через брак передается тление, держава смерти, первородный грех; прекращение брака есть прекращение греха:
«Итак, если мы хотим здесь «разрешитися (αναλυεις) и быть со Христом» (Флп 1:23), то должны начать свое отрешение (αναλυσις) с брака». Итак, и все личные, и все общественные грехи, и грех в своем онтологическом основании — смерти — всё идет от семьи и отказ от семьи есть соединение со Христом, возвращение в рай. В нашем диалектическом движении — истина Златоуста, сохраняя истину Розанова, снимает ее, возвращаясь на новом уровне к истине Кьеркегора — новый виток: истина Григория, сохраняя истину Златоуста, снимает ее, возвращаясь к истине Розанова. Идем дальше.
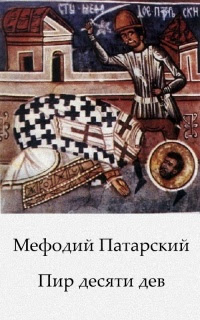
«Пир десяти дев» святителя Мефодия Патарского, еще одна апология девства, подражание Платону, добавляет новый момент истины — то, что отрицают апологеты «вечности» моральных ценностей, в частности семейных — момент исторической эволюции морали и семьи. Семья не вечна, были разные типы семьи, разные типы семейно-сексуальной этики, учит нас святитель Мефодий:
«Растение девства ниспослано людям с небес по истине к великому преуспеянию; и потому оно не было открыто первым поколениям. Тогда род человеческий был еще немногочислен и ему нужно было размножаться и усовершенствоваться. Посему не было непристойным, что древние вступали в супружество с своими сестрами, до тех пор, пока пришедший закон определил и, запретив казавшееся прежде хорошим, объявил это грехом, называя проклятым открывающего наготу сестры своей Бог попечительно оказывал помощь роду нашему соответственную времени, как родители поступают с детьми. Они не тотчас с самого младенчества приставляют к ним учителей, но позволяя им в детском возрасте забавляться играми, подобно юницам, сначала посылают их к учителям лепечущим вместе с ними; когда же они сбросят юношеский пух ума, то посылают их заниматься высшими науками, а затем еще более высшими. Так, нужно думать, Бог и Отец всех обращался и с нашими предками; пока мир еще не был наполнен людьми, то человек был как бы младенец и ему нужно было прежде размножаться, и таким образом возрастать в мужа. А когда он был населен от концов до концов своих, и человечество беспредельно распространилось, то Бог не допустил людям оставаться при прежних нравах, имея в виду, чтобы они, переходя от одного к другому, постепенно более и более приближались к небесам, пока не сделаются совершенными, достигнув величайшего и высочайшего учения – девства; именно, чтобы они сначала перешли от смешения с сестрами к вступлению в брак с посторонними женщинами, потом чтобы не совокуплялись с многими подобно четвероногим животным, как бы родившиеся для совокупления, затем чтобы они не были прелюбодеями; а потом далее (перешли бы) к целомудрию, и от целомудрия к девству, в котором, научившись возвышаться над плотию, безбоязненно вступили бы в безмятежную пристань нетления. Браки с сестрами прекращены обрезанием Авраама. Со времен пророческих отвергнуто многоженство. Самая супружеская чистота ограничена».
Важнейшая библейская и святоотеческая истина: нет вечной семейной морали, есть ее промыслительно управляемая история. Вопреки консерваторам — мораль и семья относительны, вопреки релятивистам — именно посредством относительности морали и семьи реализуется Абсолютная Истина. Итак: история движется от максимума семьи к ее нулю: от промискуитета через запрет инцеста, через запрет полигамии к установлению идеала моногамии и идеала девства — от размножения к нетлению, от животного к Богу. Наша диалектика, как оказалось — не абстрактна, а, как и следует диалектике, — исторична. Современный «крах семейных ценностей» тем самым — лишь момент этой диалектики исторического разворачивания Абсолютной Истины. Как не узнать современность, «крах семьи», например, в житиях мучениц?
Святая Варвара заперта отцом в башне, а потом за свои убеждения убита им. Такова власть отцов. А если не отцы, то мужи, тогда особенно, когда брак был узаконенным изнасилованием, когда дочерьми торговали как вещами. Святая Иулиания была жестоко избита отцом за нежелание выходить замуж, а казнил ее несостоявшийся жених — примечательный мужской союз. Святую Матрону муж бил и не пускал в церковь. Ей пришлось сбежать от мужа, переодевшись евнухом. Святую Магну отдали против ее воли замуж, ей приходилось идти на многие хитрости, чтобы не переспать с тем, кого она не любила (не выполняла «супружеский долг», а на самом деле избегала изнасилования). И т. д. и т. д. Святые мученицы: против отцов, против мужей, против семьи. О преподобных молчим, и так все понятно.

Как же нам совместить моменты моногамии, эротизма, монашеского подрыва семейственности, «краха семейных ценностей» в (пост)христианском мире, монашеский и супружеский «коммунизм», девство как путь к нетлению, историчность семьи и морали? Их уже совместил Соловьев в своей шедевре «Смысл любви»: наша диалектика здесь приходит к синтезу.
«Человек это животное, которому приказано стать богом», как учил святитель Василий Великий. Путь от животного к Богу, от смерти к нетлению, от разъединенности к единству и есть суть истории.
Сила размножения — есть уже тяга к бессмертию, но она лишь закрепляет смертность (увековечивая только лишь род смертных существ). Пол — есть сила, устремленная к бессмертию (ибо рождая, она — по Розанову и Соловьеву — подобна Богу, «продолжает» его). В неживой материи нет пола, как и в примитивных формах жизни. По мере эволюции сила пола возрастает, растет половой деморфизм, но при этом уменьшается размер потомства (рыбы откладывают огромное количество мальков, при этом у них нет «секса»). Размер потомства обратно пропорционален эротизму. Движение эволюции: меньше потомства (у высших животных — один, два, три детеныша), больше эротизма (брачные ритуалы, сложность социальных отношений и пр.). У человека это двойственное движение достигает пика: любовь у людей сложна, многообразна, сексом они могут заниматься в любое время года, притом детей у них может вовсе не быть. Биологическая эволюция сменяется социальной (момент истины Мефодия Патарского): примат рода по мере истории сменяется индивидуализированной любовью: меньше рода, больше «романтики».
Любовь есть придание конкретной личности абсолютной ценности. Любовь требует, чтобы возлюбленная не умирала (взгляд Бога на человека). Любовь требует бессмертия (воскресения) для возлюбленной. Стремление к бессмертию, кое раньше выражалось половой силой в размножении, на этой стадии выражается в требовании бессмертия для этой конкретной личности. Сила пола в людях персонализирована, предельно индивидуализирована: эротизм достигает высшей формы в моногамии (момент истины Кьеркегора). Не про род уже идет речь, а про личность. Размножение больше не нужно, нужно нетление: и это не противоположности, а две фазы одной и той же силы. Это момент истины Григория Нисского: отмена размножения ради нетления. Аскетизм и есть сила эроса, направленная не на размножение, а на нетление.
Это персоналистический момент любви, без противоречия перерастающий в социальный. Любовь есть самоочевидно совершенная связь двух, совершенный социум (момент истины Златоуста). Но если речь идет о переходе от рода к личности, от животного к Богу, от размножения к нетлению, то, следовательно, старые — внешние — социальные связи (род, государство, власть и пр.) должны уничтожится, чтобы дать место новым, внутренним связям (любви, персонализму) — это момент истины Розанова — да, христианство подрывает старые связи для созидания новых. То, что в отношении двух есть эротическая любовь, требующая нетления, то должно быть определяющим для всего социума. Сила пола преображается из родовой в персоналистическую, из семейной в аскетическую, из патриархальной в свободную.
Иначе: любовь есть опыт Бога, неземной жизни, где нет зла, где есть вечность, неотмирный восторг и радость. Люди с трудом его выдерживают, скатываясь в мирские формы животной/стайной жизни («семья как ячейка общества»: стая). Духовное/аскетическое усилие позволяет людям удерживаться на высоте вечности.
Век сей есть господство вражды, ненависти, эгоизма. Век грядущий, Царство Божье — есть царство любви, свободы, единения. Аскетизм и моногамия — есть внутренне единые формы перехода от первого ко второму.
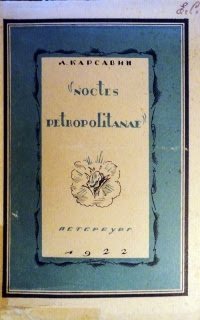
В принципе, мы достигли цели — реконструкции истины христианского брака: первоначальное утверждение (Кьеркегор) → его отрицание (Розанов) → синтез, новое утверждение (Златоуст) → его отрицание (Григорий Нисский) → переход от абстрактной конструкции к исторической конкретности (Мефодий Патарский) → итовый синтез (Соловьев). Как и следует в диалектике, итовый синтез не уничтожает тезисов и антитезисов, его породивших, но вбирает их в себя, сохраняет в полноте. Но всё же это только схема.
Как всё это сложно в реальности, иллюстрирует Карсавин в Noctes Petropolitanae. Переход в реально существующей эротической страсти от вражды к любви он рисует так:
«Я хочу, чтобы любимая совсем, вся была моею, мною самим, чтобы исчезла она во мне и внешне от нее ничего не осталось. Эта жажда господствования и убийства есть во всякой любви; без нее, без борьбы двоих не на жизнь, а на смерть любить нельзя. Любовь всегда насилие, всегда жажда смерти любимой во мне. Даже когда я хочу, чтобы любимая властвовала надо мною, т. е. когда хочу ее насилия надо мной, я хочу именно такого насилия, уже навязываю любимой мою волю. Отказываясь от всяких моих определенных желаний и грез, самозабвенно повторив: “да будет воля твоя”, я все же хочу, чтобы она (никто другой) была моей владычицей, умертвила меня, т. е. отождествляю мою волю с ее волей и в ней хочу своей гибели. И уже не она владычествует — я владычествую. В предельном развитии своем подчинение рождает господствование. И в этом пределе нет уже ни того ни другого, а только единство двух воль, двух я, единство властвования и подчинения, жизни и смерти».
«Само стремление господствовать и насильничать, причинить смерть естественно и необходимо в любви, как неполное ее, ограниченное выражение» — и всё же как часто только этим «любовь» и кончается. Карсавин так рисует историю любви/семьи (аналогично Мефодию и Соловьеву):
«В меру слабых желаний своих, учаственно причаствуют люди Любви; и у каждого своя мера, своя степень причастия. На низших ступенях владычествует Любовь в законе животной любви, сопрягающей тела и, чрез объединение, множащей их. Она осуществляет во времени и пространстве полноту телесности в ее множественности и взаимопротивопоставленности частей, но, бессильная подняться над множеством, только преобразует единство в тщете недолгих объятий. На миг объединяя и обнаруживая напряжение Жизни, она разлагает, как Смерть, мгновенную радость топит в тоске тления, чтобы все стало всем. Для нее нет личности ни в том, кто любит, ни в том, кто любим.
Немногим полнее Любовь там, где господствует полигамия и где, как у древних, духовная дружба отъединена от плотского союза. Но и брак лишь слабая степень обнаружения Любви. Не на Любви держится он, а на холодном расчете рассудка, на быте, на житейской привязанности, иногда — на смутной грезе о Любви. И он” счастливее” и спокойнее, когда основан на расчете иль быте: в этом случае его сдерживают веками сложившиеся формы жизни. В нем нет или мало тепла Любви и мало ее света, но есть в нем тепло привычки и всякой, хотя и не глубокой дружбы. Не достигает в нем расцвета личность, передавая не выполненную ею задачу потомству. Сумерки неведения и серая мгла безжизненности лежат на таком браке. В этих сумерках, в этой мгле вырастают тысячи поколений, поднимаясь над животностью — не достигая человечности.
Чем богаче и глубже человек, чем более превозмог он свою материальность и чем духовнее, тем уже круг тех, кто ему” подходит”, тем тяжелее и болезненнее всякая ошибка.
Но может быть Любовь без четы? Вот и Он, избранницы на земле не знавший, близкий душе моей и непонятный. Он ли, творческим словом своим создавший мир во мне и любимой моей, Он ли, соединивший нас, — нашу Любовь, Себя самого отрицает? Влечет Он к Себе с невыразимою нежностью и силой. Но живет Он в Любви моей и не могу я, познавший Вселенную, не видеть в ней Его самого: люблю Его, но не хочу и не должен любить без любимой моей».

И предельно конкретно, на примере личной трагедии — «Боль утраты» Льюиса, пронзительная книга о смерти жены, в некоторых местах приближающаяся к дерзновению Иова. Самое средоточие наших тем: любовь вот к этой конкретной женщине требует ее бессмертия, а она умерла. Как Бог такое допускает? Или: только такая ситуация предельно и выражает любовную истину Бога, любовного требования бессмертия? Одна из лучших и честнейших книг о любви, браке, смерти, Боге — в их нераспутываемом переплетении:
«Да, проще всего сказать: Бога нет, когда мы больше всего в нем нуждаемся , потому что Его — нет, Его не существует. Но тогда почему Он есть тогда, когда, если быть откровенным, мы можем обойтись без Него?
Как бы то ни было, в одном я уверен: брак был создан для меня. Я никогда не поверю, что религию придумали, чтобы прикрыть наши бессознательные желания и заменить ею секс. Потому что эти несколько лет , что мы были вместе, мы наслаждались любовью во всех ее проявлениях: времена серьезные и веселые, романтически— приподнятые и приземленные, иногда — иногда драматические, как гроза, временами — удобные и уютные, как домашние шлепанцы. Ни единая крупица тела и души не остались неудовлетворенными. Если бы Бог заменял собой любовь, мы по идее должны были бы потерять к Нему всякий интерес. Кому нужна подделка, если у тебя есть подлинник? Но этого не происходит. Мы оба знали, что помимо друг друга нам нужно было что-то еще, нечто, чему нет названия, какая-то смутная потребность. Другими словами, когда любящие вместе, им больше ничего не нужно, не нужно, к примеру, читать, есть, дышать».
«Между мужем и женой всегда происходит скрытая или явная борьба полов, до тех пор, пока совместная жизнь не стирает все противоречия. Считать женскую верность, прямоту и храбрость признаками мужественности — такое же высокомерие, как нежность и чувствительность мужчины называть женственностью. Какой же несчастной и извращенной частью человечества должно быть большинство мужчин и женщин, допускающих подобную самонадеянность! Брак излечивает ее. Соединяясь в браке, двое сливаются в одно полноценное человеческое существо. «Он сотворил их по образу своему и подобию». Как это ни парадоксально, но торжество сексуальности приводит нас к тому, что гораздо выше пола.
И вот один из них умирает».
Больше книг, лекций и прочего о христианском браке смотрите на специальной тематической странице.




