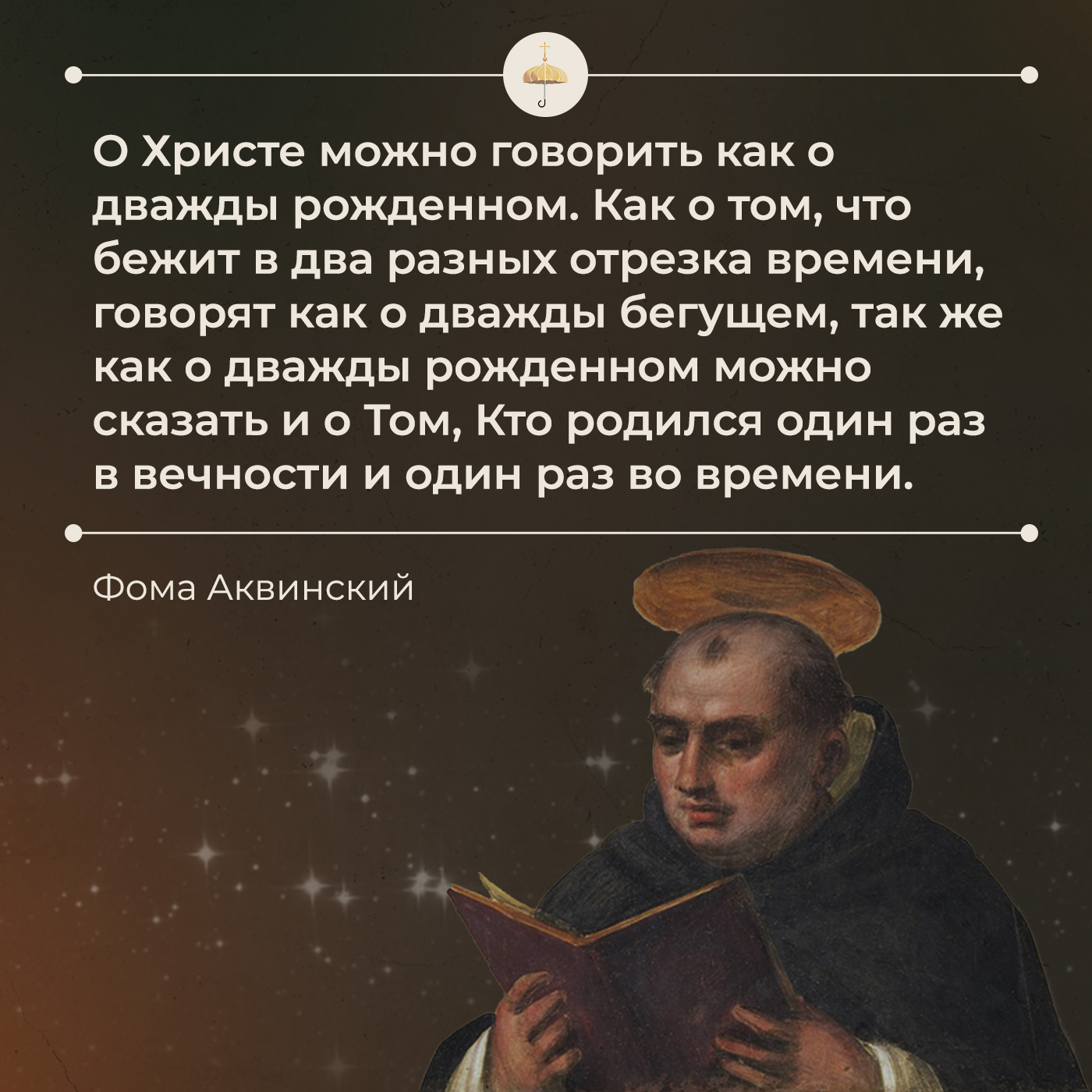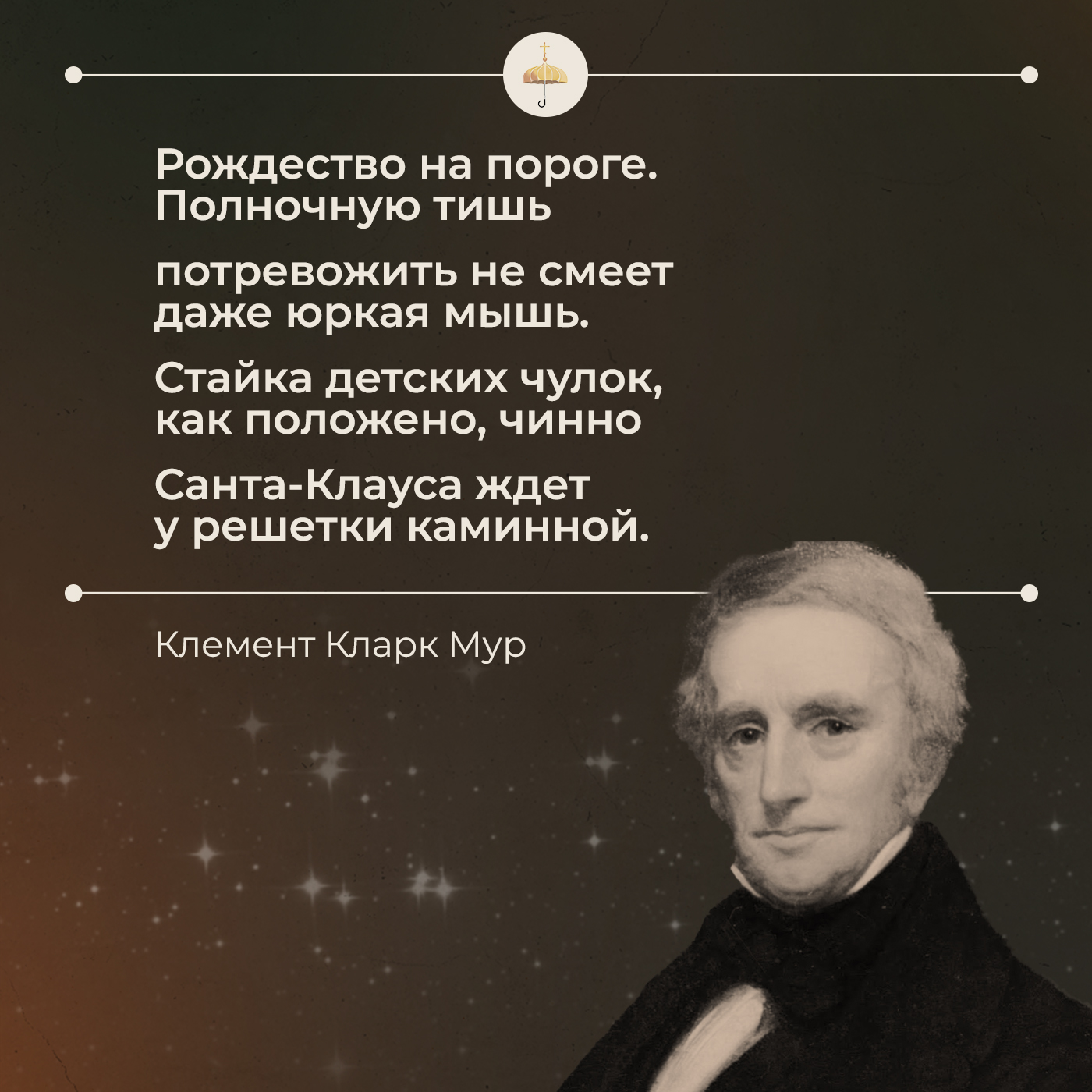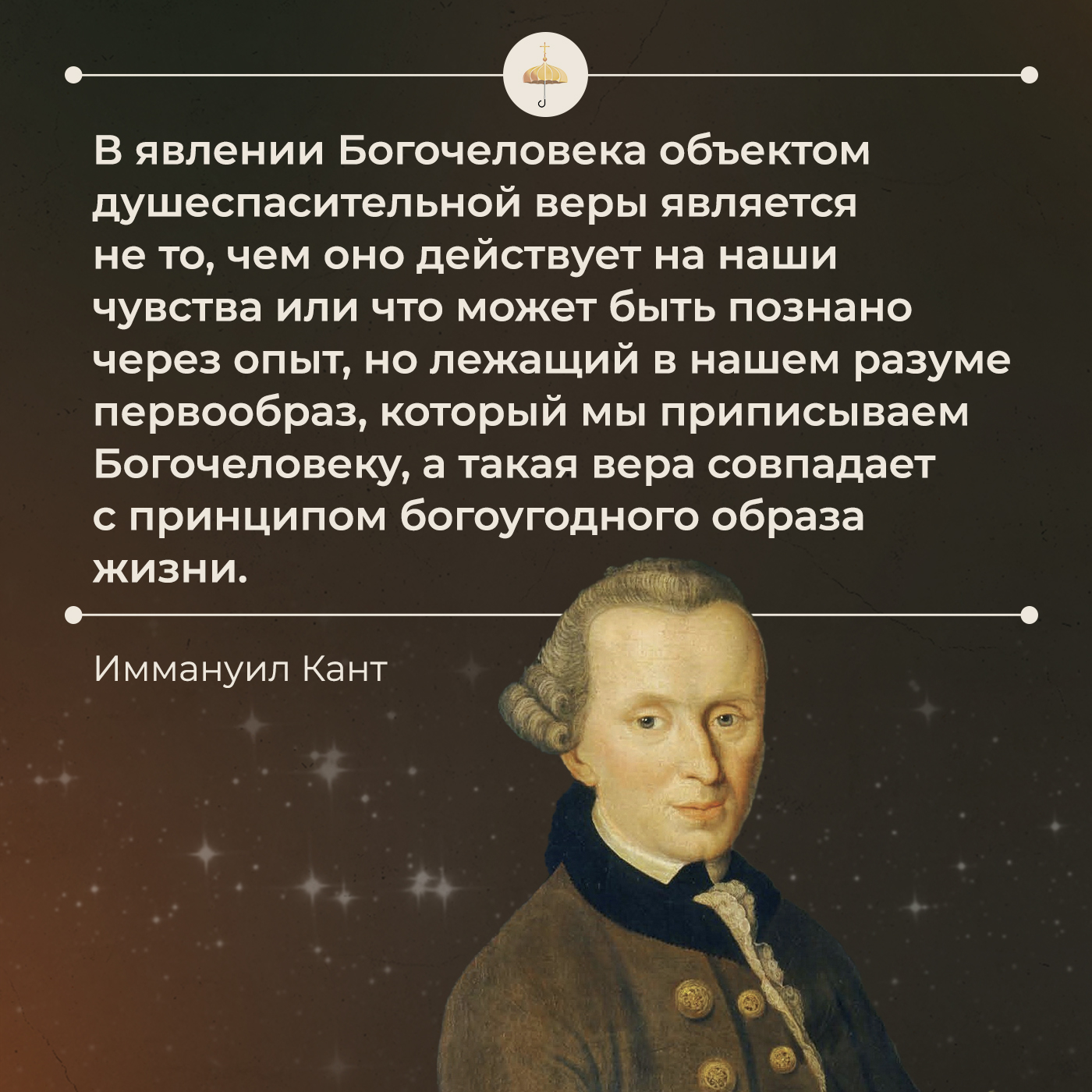Рождество Христово, конечно, одно для всех, потому что Христос един и спасение Он принес всем. Но у каждой эпохи свой образ Рождества, сформированный историческими обстоятельствами, а еще конкретными людьми, которые сформулировали нечто новое, и это новое стало достоянием больших культурных эпох.
Что такое западное Рождество? Попытаемся ответить на этот вопрос, обратившись к наследию выдающихся западных мыслителей.
Фома Аквинский: уютная понятность Боговоплощения
В «Сумме теологии» среди множества прочих вопросов Фома Аквинский задает и вопросы о Христе. Например, можно ли присваивать Ему временное рождение? Богослов приводит возражения древних и современных еретиков: Христос не мог родиться во времени, потому что вечен и потому что совершенен. Кроме того, рождение свойственно конкретному лицу, которое рождается только один раз. Следовательно, Христос не может (в отличие от Гермеса) быть дважды рожденным. Правильно?
Вовсе нет, — отвечает Фома. Опираясь на святых Иоанна Дамаскина и Кирилла Александрийского, на Аристотеля, но более всего на собственный разум, мыслитель опровергает: вы были бы правы, если бы у Христа была только вечная божественная природа. Но Он еще и человек, который таки рождается во времени, и это рождение «второе», если считать «первым» вечное рождение Сына от Отца. Тем самым,
О Христе можно говорить как о дважды рожденном с точки зрения двух Его рождений. Ведь подобно тому, как о том, что бежит в два разных отрезка времени, говорят как о дважды бегущем, точно так же как о дважды рожденном можно сказать и о Том, Кто родился дважды, один раз в вечности и один раз во времени, поскольку вечность и время отличаются друг от друга гораздо больше, чем два разных времени, хотя при этом каждым из них измеряется некоторая продолжительность.
Подобное восприятие Христа и Его рождения — в основе западноевропейского христианства. Если Сам Христос приходит, чтобы спасти целого человека, христология необходима для того, чтобы Господь поселился и в нашем разуме. А схоластика, изощренное богословие, максимально приспособленное к категориальному мышлению, обустраивает дом для Премудрости со всеми удобствами, делает пребывание Христа в нашем сознании уютным.
Мы убеждаемся в том, что без Спасителя, без Его Рождества наше мышление, наше видение мира неполно и ущербно, а с Ним — логично и упорядоченно. Возможно, тут таится и опасность: Христос кажется слишком безопасным, не противоречащим «тому, что в мире» и не заставляющим нас этому миру противостоять.
Схоластика воспитала европейского человека, но и убаюкала его, убедив, что христианство победило, что торжество Церкви неотменимо. История показала, что борьба за духовный огонь вовсе не завершилась.
Данте Алигьери: благородное человеческое естество
Это схоластика в хорошем смысле слова. Плохая, «закавыченная» схоластика — обсуждать, к какому периоду культуры относится «Божественная комедия» Данте Алигьери: к Возрождению или Предвозрождению. Эта книга — наряду с «Суммой теологии» — подпирает шкаф европейской культуры, плюс в ней содержится нечто новое: внимание к человеческой природе как к самостоятельной ценности:
О Дева-Мать, Дочь Своего же Сына,
Смиренней и возвышенней всего,
Предызбранная промыслом вершина,
В Тебе явилось наше естество
Столь благородным, что его творящий
Не пренебрег твореньем стать его.
В Твоей утробе стала вновь горящей
Любовь, чьим жаром райский цвет возник,
Раскрывшийся в тиши непреходящей.
Рай. XXXIII песня
Здесь нет человекопоклонничества Ренессанса — восхищение перед человеческой природой встроено в благочестивое прославление Богородицы и Христа. Но все же акцент смещен: Бог принял нашу природу, воплотился не потому, что эта природа нуждается в исцелении и спасении, а потому, что она прекрасна и совершенна.
В этом есть своя и даже благочестивая логика: тело Спасителя не могло образоваться в утробе сколь-либо нечистой, принадлежащей нравственно ущербной душе. И Данте (а вслед за ним и переводчик Лозинский) очень точен: Спаситель «не пренебрег / не побрезговал» (non disdegnò) родиться именно от этой Девы.
Однако — повторимся, тут лишь интонация, смысловой оттенок — речь идет не только о подвиге Марии, но и о высоком качестве, «благородстве» общей человеческой природы.
Гуманистические обертона, звучащие у Данте Алигьери, будут звучать все громче в эпоху Ренессанса и в Новое время, чтобы затем — рокотом моторов и переливами заводских гудков — заглушить голос родившегося человеком Христа. И в нашем восприятии Рождества не так уж мало заблудившегося на своих путях гуманизма: мы прекрасны, спору нет, однако наша красота — это не причина божественной милости, а ее следствие. Мы спасены во Христе ровно потому, почему окончательно не погибли после грехопадения и даже сохранили отблески той райской славы.
Мартин Лютер — похититель Рождества
Современный западный образ Рождества, который, впрочем, тоже уходит в прошлое стараниями чиновников Евросоюза, возник, как известно, в совершенно конкретном месте благодаря усилиям конкретного человека — нью-йоркского поэта Клемента Кларка Мура:
Рождество на пороге. Полночную тишь
потревожить не смеет даже юркая мышь.
Стайка детских чулок, как положено, чинно
Санта-Клауса ждет у решетки каминной.
<…>
Играя в гляделки со снегом искристым,
Луна озаряла сиянием чистым
(я так и застыл у окна в изумленье)…
чудесные санки и восемь оленей.
За кучера — бойкий лихой старичок.
Да-да, это Санта — ну кто же еще
мог в крохотных санках орлов обгонять
и басом веселым оленям кричать.
Небольшой стишок «Визит святого Николая» (1823) отчасти объединяет разрозненные элементы народных традиций, отчасти эти традиции придумывает. Это редкий случай: сначала Нью-Йорк, а затем и весь западный мир, как выражаются исследователи, «принял в свои объятия “детскую версию Рождества”», сформулированную в детском же стихотворении.
Профессор богословия и библеистики нью-йоркской Всеобщей богословской семинарии Епископальной Церкви, Мур, вероятно, неосознанно стремился преодолеть сдержанное отношение к Рождеству, свойственное протестантизму. Это видно и из стихотворения: святой Николай является ровно тогда, когда дети и взрослые самым скучным образом отправляются спать.
Но нам интересно не то, как Америка спасла рождественский дух, а почему этот дух надолго угас. В этом виновата еще одна узловая для Запада личность — Мартин Лютер.
Пусть будут отменены все праздники, за исключением воскресенья. Если же захотят сохранить праздники Богородицы и Великих Святых, то пусть перенесут их все на воскресенье или же отмечают только утром, во время мессы; а затем весь день пусть будет рабочим днем. Основанием для этого служит то, что [празднику] сопутствуют неумеренное пьянство, [азартные] игры, безделье и всяческие прегрешения; вследствие чего мы больше гневим Бога в святые дни, чем в будни. И получается как раз наоборот: Святой День — не святой, а рабочий день — святой.
В масштабной программе, предложенной Лютером в послании-трактате «К христианскому дворянству немецкой нации», содержится радикальное отрицание «человеческой» составляющей праздника, то есть того, что сообщает человеку не только духовную, но и душевно-телесную радость, например, отдых от тяжелого крестьянского или ремесленного труда. В полной мере демонтаж праздничного антуража касается и Рождества.
Нет, Мартин Лютер не считал случившееся в Вифлееме чем-то незначительным. Как раз наоборот: до нас дошло изрядное число проповедей реформатора с толкованиями на каждую евангельскую строку о Рождестве. Дело, однако, в том богословии, которое эти проповеди содержат.

Человеческая природа после грехопадения настолько дурна, настолько слаба, настолько неспособна к богопознанию, что единственный наш шанс победить косность природы — неотрывно созерцать родившегося Спасителя и безо всякой передышки трудиться — если не телесно, то умственно, если не умственно, то молитвенно.
При таком подходе, конечно, не остается никакого места не только для пьянства, игр, безделья и «всяческих прегрешений», но и для эстетизации праздника: величественные храмы, торжественное богослужение, красивые облачения — все объявляется идолослужением.
Далее есть другое грубое поношение, состоящее в том, что люди прославляют деньги, имущество и тому подобное. Мир также наполнен таким идолопоклонством. Короли, князья и бюргеры ходят и поклоняются этим зданиям и камням, этой жалкой маммоне, этому ничтожному помощнику, и на него одного они возлагают свою надежду. Тем временем они поют и говорят о Младенце Иисусе, но презирают Его; воистину, иногда их охватывает такое безумие и сумасшествие, что они преследуют Его и не могут терпеть Его. Итак, Бога повсюду хулят и бесчестят, как посредством утонченного идолопоклонства, то есть собственной праведности и святости, так и посредством грубого, когда Бога презирают и держатся за маммону.
Проповедь на Рождество. 1530–1534 годы
Речь, конечно, не о том, что опасно увлекаться душевно-телесной стороной христианства, а о том, что человеческая природа настолько испорчена, что душа и тело могут соприкасаться с миром только в одном модусе — в модусе страдания, труда, преодоления. Из этого богословско-аскетического постулата выросла цивилизация современного Запада, но для нас важно то, как он повлиял на наше — ведь мы далеко не все протестанты — восприятие Рождества.
Наше стихийное «лютеранство» в том, что мы утратили чувство праздника, чувство священного времени, представление о календаре как о хронологически структурированной жертве. И правда, мы воспринимаем как нечто серьезное и важное время, когда трудимся, а молитва для нас кажется ценной, когда дается с трудом, когда доставляет хотя бы небольшое страдание.
Если же богослужение в радость, то это вроде как и неправильно — слишком уж похоже на развлечение, на отдых от общественно и лично полезного труда.
Иммануил Кант: идеал Богочеловека вместо Богочеловека
Чтобы наша конструкция была устойчивой, предложим четвертое основание для современного восприятия Рождества. Я вижу это основание в трудах нашего соотечественника, родившегося 22 апреля, подлинного революционера, сторонника вечного мира во всем мире. Он свое отношение к пришествию Богочеловека в мир сформулировал в следующих словах:
Живая вера в первообраз угодной Богу человечности (в Сына Божьего) сама по себе относится к моральной идее разума, ибо последняя служит нам не только общим правилом, но также и побуждением; следовательно, все равно, начинаю ли я с этой веры как рациональной или с принципа доброго образа жизни. Напротив, вера в тот же самый первообраз в явлении (в богочеловеке) как эмпирическая (историческая) вера — не одно и то же с принципом доброго образа жизни (который должен быть рациональным), и было бы чем-то совсем другим начинать с такой веры и пытаться выводить из нее добрый образ жизни, поскольку это повлекло бы за собой противоречие между двумя указанными выше положениями. Однако в явлении Богочеловека объектом душеспасительной веры является, собственно, не то, чем оно действует на наши чувства или что может быть познано через опыт, но лежащий в нашем разуме первообраз, который мы приписываем Богочеловеку (ибо, насколько он позволяет постигнуть себя из своего примера, он этому первообразу вполне соответствует); а такая вера совпадает с принципом богоугодного образа жизни.
Иммануил Кант. Религия в пределах только разума
Вспоминаем основы кантовской философии. Мы не можем видеть, осязать, постигать вещь саму по себе — мы знаем лишь то, как вещь является нашим чувствам. Чувственный материал обрабатывается субъектом, нашим сознанием, с помощью набора неизменных априорных инструментов, получает форму, обретает смысл.
Но Бог — это не чувственный объект, и у нас нет никакой возможности воспринять божественное явление с помощью чувств (в духовное, мистическое созерцание Кант не верит). Однако у нас есть идея Бога, которая не позволяет нам видеть Бога лицом к лицу, зато дает возможность действовать так, как если бы Бог существовал.
Поэтому-то, с точки зрения Канта, логика «я вижу Господа в яслях и поэтому становлюсь лучше» — перевернутая: я становлюсь лучше вовсе не потому, что вижу нечто, символизирующее божественную идею, которая на самом деле содержится в моем сознании, а потому, что действую сообразно этой идее. Именно в этом действии и заключается живая вера в Сына Божьего.
Благодаря Канту философский объект теперь вращается вокруг субъекта — как планеты, астероиды, кометы, кентавры и транснептуновые объекты вокруг Солнца. Проблема в том, что вместе с мирозданием, хотя и на большем удалении, вокруг кантовского «Я» вращается и Господь, не решаясь сойти с орбиты, которую Ему определило европейское сознание. Западное Рождество несет в себе эту благородную отстраненность: Бог может подождать снаружи, пока мы отмечаем праздник, «напоминающий нам об идеалах добра и милосердия» (цитата из стандартного официального поздравления какого-нибудь президента или губернатора).
Мы празднуем не приход Спасителя, а торжество «идеалов».
Минус на минус: противоречивый образ Рождества
Может показаться, что и Кант, и Лютер, и Данте, даже Фома Аквинский как будто искажали, ухудшали образ Рождества, что их влияние на наше восприятие События Боговоплощения скорее отрицательное.
И правда: Фома сделал Боговоплощение слишком понятным, Данте — слишком человечным, Лютер похитил у детей праздник (хотя именно из протестантской среды вышли и спасатели Рождества), а Кант указал на его бессмысленность. Однако четыре минуса как раз дают плюс — тот противоречивый, непоследовательный, яркий и живой образ западного Рождества, который влияет и на нас, поскольку и мы — часть западной культуры.
И правда: Господь Сам хочет быть понятным, Он желает, чтобы логика питалась Логосом. Он любит человека и вроде как не должен быть против тезиса о том, что природа человека прекрасна, благородна. Бог ценит «лютеранское» желание смотреть только на Него и страдать вместе с Ним.
Наконец, Он уважает свободу воли и потому не против «дистанцироваться» до времени от субъекта, еще не готового принять Его как Богочеловека, Богомладенца, как реальное историческое Лицо, родившееся в Назарете.