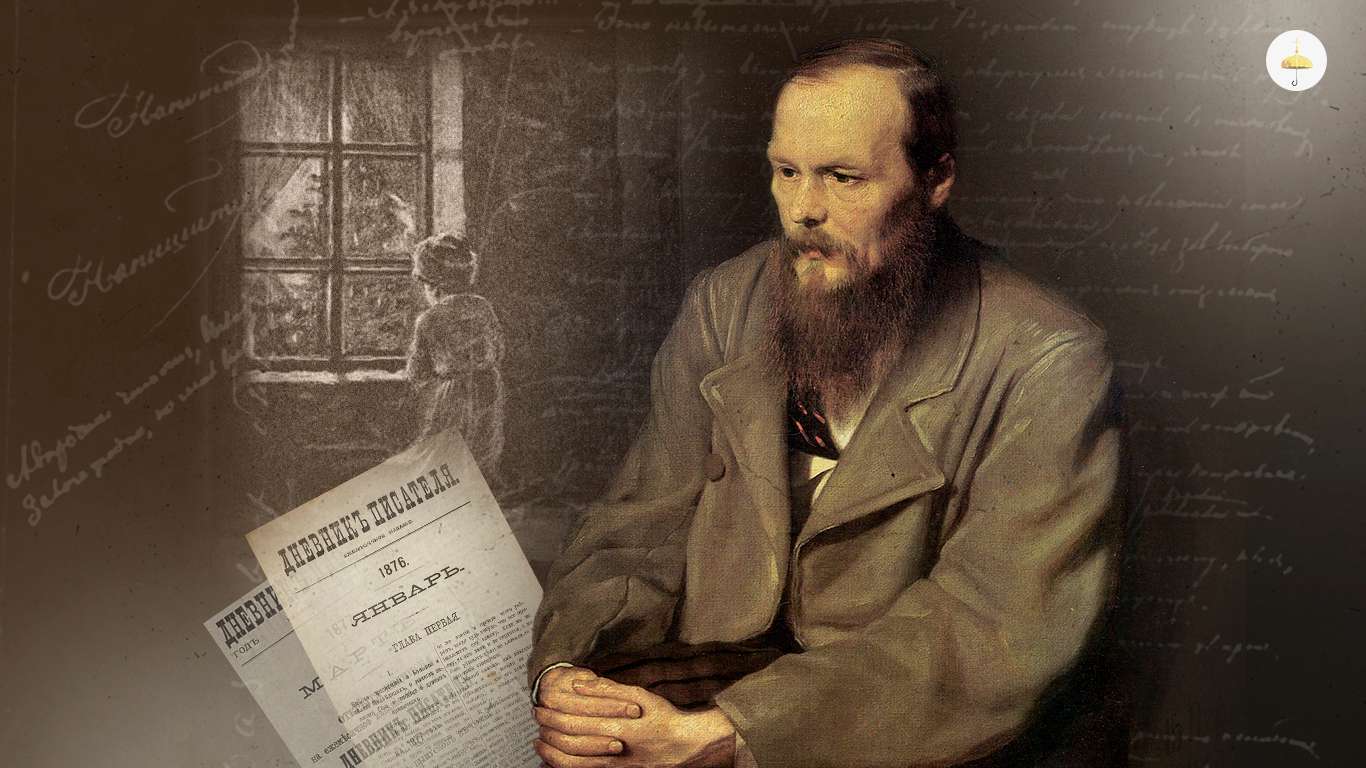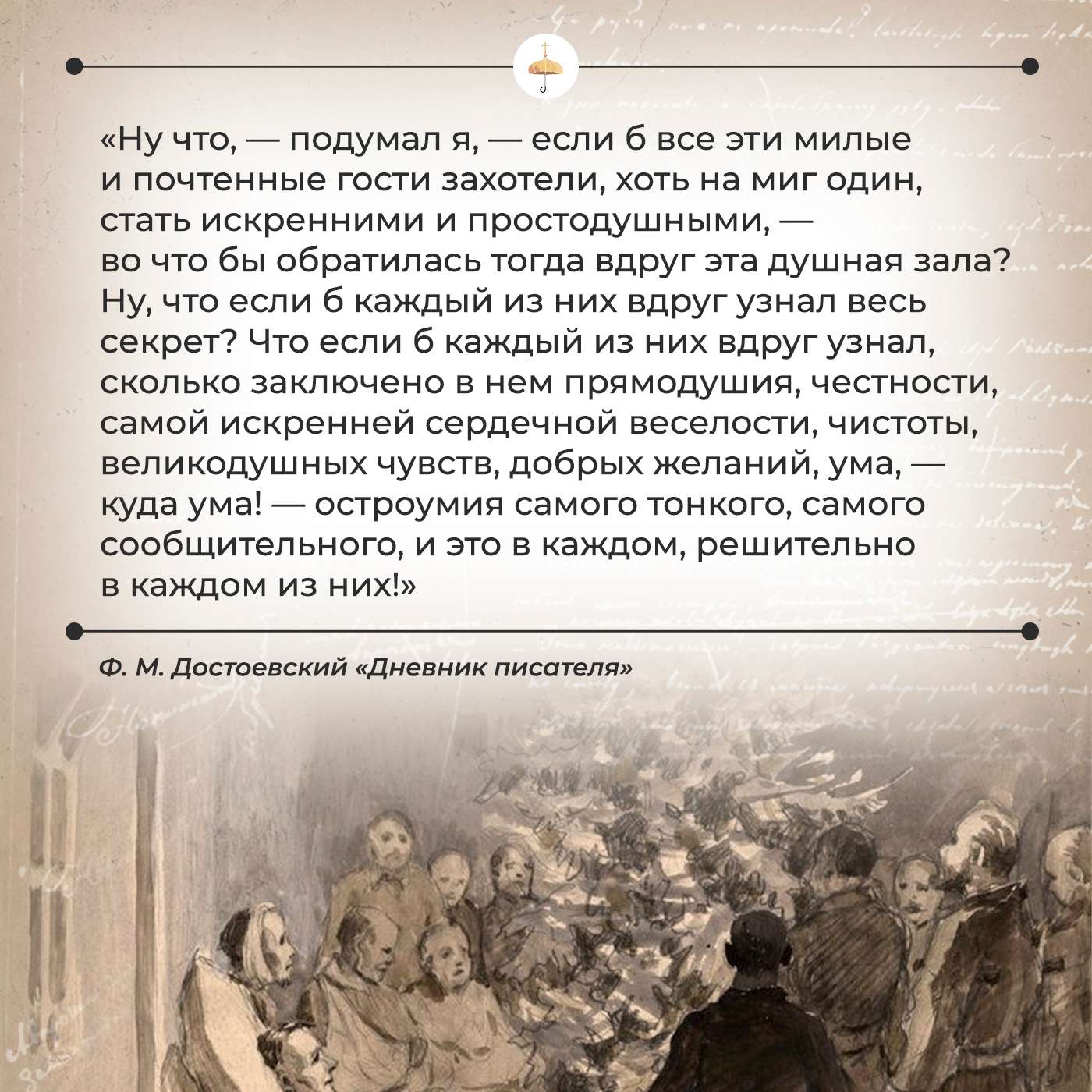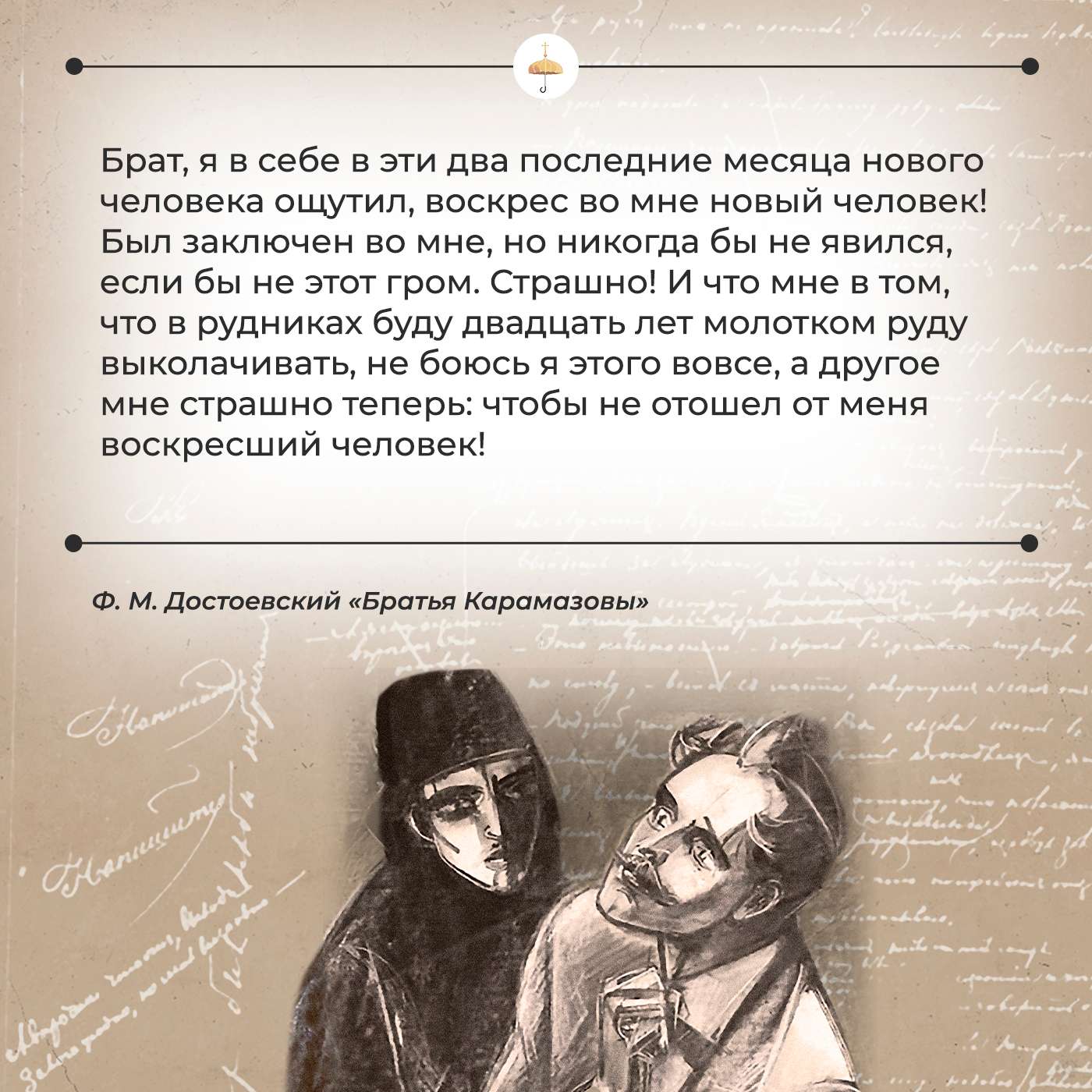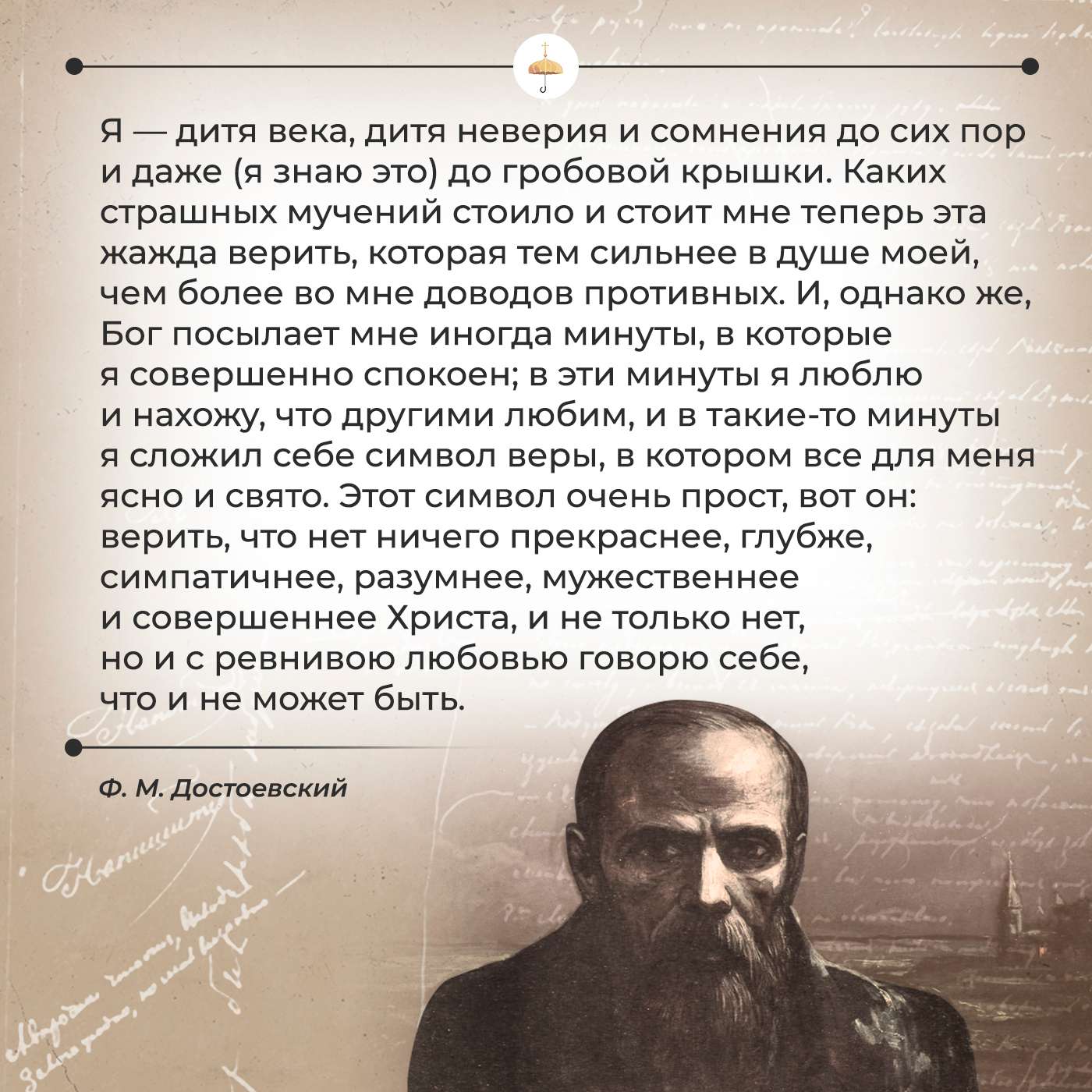Мы привычно говорим о том, что Достоевский — не только гениальный писатель, но и глубокий богослов. Но как этот тезис работает на примере конкретного текста? Каким образом евангельский рассказ о Рождестве, фабула и суть этого рассказа, могут быть разобраны на элементы и собраны заново? На эти вопросы отвечает доктор филологических наук Татьяна Касаткина, рассматривая «Дневник писателя» за январь 1876 года.
Писатель и читатель навстречу друг другу
Мы поговорим о первом номере «Дневника писателя» за 1876 год, о самом начале создания Ф. М. Достоевским этого уникального текста, который он издавал каждый месяц в течение двух лет. Впрочем, он создавался не как ежемесячное газетное издание. По черновикам видно, что Достоевский, готовясь выпустить первый номер, продумывает «Дневник» почти на год вперед. Это целостное произведение совершенно не публицистического характера. Его можно рассматривать как обучающий текст для того читателя, который, как он надеется, сможет прочесть и понять «Братьев Карамазовых».
Достоевский регулярно обнаруживает себя в ситуации, когда он рассчитывает на полное понимание читателя, но читатель оказывается перед текстом в растерянности и не понимает его. Вот определение, которое предлагает Достоевский:
«Художественность, например, хоть бы в романисте, есть способность до того ясно выразить в лицах и образах романа свою мысль, что читатель, прочтя роман, совершенно так же понимает мысль писателя, как сам писатель понимал ее, создавая свое произведение» («Г-н — бов и вопрос об искусстве», 1861).
Однако это встречный путь: писатель должен быть абсолютно четок в создаваемых им образах, а читатель должен быть способен потрудиться, произведя раскрытие мысли через эти образы, должен быть очень внимателен к тому, что, как и в каком порядке пишет Достоевский.
Самоубийство — это отъединенность от Бога и ближнего
Весь январский номер писатель создает как своего рода декларацию о намерениях и предисловие к своему последующему творчеству. Весь номер строится вокруг рождественской елки. Елка — в центре, в середине номера, где располагается рассказ «Мальчик у Христа на елке».
Начинает номер Достоевский очень странно. Первая глава открывается подглавкой «Вместо предисловия. О Большой и Малой Медведицах, о молитве великого Гете и вообще о дурных привычках». Он начинает с многоточия, как с некой оборванной или наполовину проговоренной фразы. После многоточия Достоевский пишет о вранье.
…Хлестаков, по крайней мере, врал-врал у городничего, но все же капельку боялся, что вот его возьмут, да и вытолкают из гостиной. Современные Хлестаковы ничего не боятся и врут с полным спокойствием.
После констатации того, что мы живем в мире лжи, он начинает говорить о самоубийствах и об их причинах. Хороший зачин для «Дневника писателя» и для представления себя читателям. Сначала он пишет о самоубийствах, которые происходят по чрезвычайно поверхностным причинам. Например, такие:
«Милый папаша, мне двадцать три года, а я еще ничего не сделал; убежденный, что из меня ничего не выйдет, я решился покончить с жизнью…» И застреливается. Но тут хоть что-нибудь да понятно: «Для чего-де и жить, как не для гордости?» А другой посмотрит, походит и застрелится молча, единственно из-за того, что у него нет денег, чтобы нанять любовницу. Это уже полное свинство.
Мы остаемся в растерянности перед этими бессмысленными самоубийствами.
И в этом ужасно много странного. Неужели это безмыслие в русской природе? Я говорю безмыслие, а не бессмыслие.
Нет ничего похожего на французов или на немцев.
Самоубийца Вертер, кончая с жизнью, в последних строках, им оставленных, жалеет, что не увидит более «прекрасного созвездия Большой Медведицы», и прощается с ним. О, как сказался в этой черточке только что начинавшийся тогда Гете! Чем же так дороги были молодому Вертеру эти созвездия? Тем, что он сознавал, каждый раз созерцая их, что он вовсе не атом и не ничто перед ними, что вся эта бездна таинственных чудес божиих вовсе не выше его мысли, не выше его сознания, не выше идеала красоты, заключенного в душе его, а, стало быть, равна ему и роднит его с бесконечностью бытия…. и что за все счастие чувствовать эту великую мысль, открывающую ему: кто он? — он обязан лишь своему лику человеческому.
Достоевский ставит в образец русским самоубийцам не человека, который проживает жизнь, даже не думая о самоубийстве, а другого типа самоубийцу. Это чрезвычайно интересно, потому что, объясняя бессмысленность наших самоубийц, писатель говорит о том, что
в нашем самоубийце даже и тени подозрения не бывает о том, что он называется я и есть существо бессмертное.
А самоубийца Вертер лучше тем, что видит себя соразмерным космосу, не чувствует себя перед ним униженным. Наоборот, он чувствует, что идеал красоты, заключенный в душе его, равняет и роднит его с бесконечностью бытия, и за эту способность чувствовать великую мысль он обязан своему лику человеческому.
Но Достоевский не ограничивается рассуждениями о людях, которые фактически заканчивают жизнь самоубийством. С его точки зрения, человек, живущий в состоянии отъединенности, в какой-то степени уже самоубийца, потому что он отвернулся от человеческого облика, данного ему Господом. Писатель начинает с того, что поверхностный уровень самолюбия, желание только брать и получать, в котором пребывает большинство человечества, — это самоубийственный уровень. Этот уровень, по Достоевскому, человек покидает только благодаря личному подвигу Христову.
В чем подвиг Христа?
Личный подвиг — это странная вещь, потому что, как правило, он противопоставляется общему делу. Подвиг в обычном понимании — это всегда принесение себя в жертву сообществу. Неважно, кто будет его совершать. Это не имеет отношения к конкретным качествам данного человека. Все меняется в момент пришествия Христова. В христианстве вдруг подвигом становится просто личная жизнь и даже просто факт рождения. Что происходит в момент Рождества и почему рождение Бога воспринимается Достоевским и вообще христианством как личный подвиг?
Для нас Рождество — начало прекрасного праздника. Это встреча с Тем, что больше нас, и раскрытие Его в нас. Пришествие Христово дает человеку ключи к его глубине, открывает образ Господень внутри него самого. Бог везде, Его главное качество — это всеприсутствие. Он присутствует в любой вещи мира и за пределами мира. И для Христа Рождество — это необходимость из всеприсутствия войти внутрь пелен. Войти внутрь собственного тела, которое по определению ограничено и смертно. Для Того, кто живет во множестве измерений, умерить Себя до маленького тела в трех измерениях — это очень сильное самоуничижение. Это начало кенозиса Божества, которое здесь уже практически состоялось.
Поэтому и икона, и западноевропейская картина будут соотносить кенозис Божества, историю Рождества с историей погребения Христова. И здесь, и там будут пещера, будет люлька или гроб, и будут пелены. Христос дважды оказывается во чреве земли. Первый раз — сразу по Рождестве, когда Он входит в состояние утесненное ради нас. При этом наша утесненность, в которой мы существовали до этого момента, наша изолированность, сосредоточенность на себе, самоубийство, с чего Достоевский начал «Дневник», исчезает благодаря утесненности, которую берет на Себя Христос.
В нас заключена красота Христа
Достоевский дальше в главке «Золотой век в кармане» говорит о том, что и как открывается человеку под рождественской елкой:
«Ну что, — подумал я, — если б все эти милые и почтенные гости захотели, хоть на миг один, стать искренними и простодушными, — во что бы обратилась тогда вдруг эта душная зала? Ну, что если б каждый из них вдруг узнал весь секрет? Что если б каждый из них вдруг узнал, сколько заключено в нем прямодушия, честности, самой искренней сердечной веселости, чистоты, великодушных чувств, добрых желаний, ума, — куда ума! — остроумия самого тонкого, самого сообщительного, и это в каждом, решительно в каждом из них!» Да, господа, в каждом из вас все это есть и заключено, и никто-то, никто-то из вас про это ничего не знает! О, милые гости, клянусь, что каждый и каждая из вас умнее Вольтера, чувствительнее Руссо, несравненно обольстительнее Алкивиада, Дон-Жуана, Лукреций, Джульет и Беатричей! Вы не верите, что вы так прекрасны? А я объявляю вам честным словом, что ни у Шекспира, ни у Шиллера, ни у Гомера, если б и всех-то их сложить вместе, не найдется ничего столь прелестного, как сейчас, сию минуту, могло бы найтись между вами, в этой же бальной зале. Да что Шекспир! тут явилось бы такое, что и не снилось нашим мудрецам. Но беда ваша в том, что вы сами не знаете, как вы прекрасны! Знаете ли, что даже каждый из вас, если б только захотел, то сейчас бы мог осчастливить всех в этой зале и всех увлечь за собой? И эта мощь есть в каждом из вас, но до того глубоко запрятанная, что давно уже стала казаться невероятною. И неужели, неужели золотой век существует лишь на одних фарфоровых чашках? Не хмурьтесь, ваше превосходительство, при слове золотой век: честное слово даю, что вас не заставят ходить в костюме золотого века, с листком стыдливости, а оставят вам весь ваш генеральский костюм вполне. Уверяю вас, что в золотой век могут попасть люди даже в генеральских чинах. Да попробуйте только, ваше превосходительство, хотя бы сейчас, — вы же старший по чину, вам инициатива, — и вот увидите сами, какое пироновское, так сказать, остроумие могли бы вы вдруг проявить, совсем для вас неожиданно. Вы смеетесь, вам невероятно? Рад, что вас рассмешил, и, однако же, все, что я сейчас навосклицал, не парадокс, а совершенная правда… А беда ваша вся в том, что вам это невероятно».
Важное слово дважды повторяется в этой «благой вести» Достоевского о том, что в каждом человеке заключено невероятно много великодушия, самоотдачи, радости, добрых желаний, ума. Мы понимаем, что заключено — это когда заключают в темницу. Это место, которое внутри нас, но оно закрыто от нас самих. А что это за место и кто там находится, мы можем узнать из двух параллельных текстов.
Один из них, последние практически слова, которые Митя Карамазов произнесет уже после того, как он сам будет заключен в тюрьму. Он вдруг откроет в себе то, что было не просто заключено, а замуровано внутри. Он говорит Алеше:
Брат, я в себе в эти два последние месяца нового человека ощутил, воскрес во мне новый человек! Был заключен во мне, но никогда бы не явился, если бы не этот гром. Страшно! И что мне в том, что в рудниках буду двадцать лет молотком руду выколачивать, не боюсь я этого вовсе, а другое мне страшно теперь: чтобы не отошел от меня воскресший человек!
Благодаря подвигу Христа, тому, что Он вошел в наше смертное тело и состояние, открывается наша внутренняя клетка, тюрьма духа, в которую мы заключили все то, что мешало нашему внешнему человеку в его погоне за сиюминутными желаниями, в конечном итоге всегда оказывающимися самоубийственными.
То, что открывается благодаря Христу в человеке как его внутреннее, оказывается настолько дорого, что заключение внешнего человека, как говорит Митя, практически не имеет уже никакого значения. С обретенной свободой ничто не может сравниться. Когда распутный, разгульный, без царя в голове брат Дмитрий обретает царя в сердце, то оказывается, что ничего дороже за всю свою жизнь он не знал, не видел, и единственная его забота теперь только в том, чтобы этот новый человек в нем от него не отошел. Новый воскресший человек — это весьма прозрачное описательное обозначение рожденного в нем Христа.
Та же по структуре фраза произносится Митей до его преображения:
В содоме ли красота? Верь, что в содоме-то она и сидит для огромного большинства людей, — знал ты эту тайну иль нет? Ужасно то, что красота есть не только страшная, но и таинственная вещь.
У Достоевского не красота порочна, как это часто представляют, а взгляд на красоту оказывается порочным. Красота внутри любого человека — это проявление образа Христова, и только от нашего взгляда зависит, окажемся ли мы способны ее увидеть.
Достоевский загадывает загадку. Есть еще один текст, с которым отрывок из «Дневника» соотносится, и он тоже совершенно удивителен. Впрочем, он известен только самому автору, мы ведь склонны иногда забывать о том, что знание, которое имеем мы, не общее. Дело в том, что Достоевский строит серию высказываний о прекрасности каждого из нас синтаксически. «О, милые гости, клянусь, что каждый и каждый из вас умнее Вольтера, чувствительнее Руссо, несравненнее Алкивиада» и так далее. А вот что Достоевский говорит в письме Фонвизиной, собственно о Христе.
Я — дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоило и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных. И, однако же, Бог посылает мне иногда минуты, в которые я совершенно спокоен; в эти минуты я люблю и нахожу, что другими любим, и в такие-то минуты я сложил себе символ веры, в котором все для меня ясно и свято. Этот символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но и с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть.
С одной стороны, он говорит о Христе: «Нет ничего симпатичнее, разумнее, мужественнее, совершеннее». А с другой — обращается к людям, которые собрались вокруг рождественской елки. Он как бы движет эти образы навстречу друг другу. Он сводит их на границе божественного и человеческого, показывая, что в каждом из нас заключена сила и мощь, которые в любой момент могут быть открыты и должны быть открыты в Рождество божественного образа. Единственная наша беда в том, что мы сами не знаем о том, что у нас внутри заключено.
Что «мерещится» Достоевскому?
Дальше Достоевский переходит к «Мальчику у Христа на елке». Это очень маленький рассказ, но в нем образы огромного масштаба. Писатель разворачивает для нас историю Рождества, которая не может состояться вовне, если не состоялось внутри нас. Христос у нас в сердце не вышел из закрытого гроба, из которого Он выходит в Рождестве. Поэтому снаружи тоже все происходит неожиданным и страшным образом.
В черновиках Достоевский обозначает «Мальчика у Христа на елке» как фантастический рассказ. Фантастическое для него, прежде всего, это радикально сокращающее время и пространство. Он аккумулирует в себе самое существо тех идей, которые пытается провести и донести до читателя «Дневника». За счет такого сокращения мы видим то, что обычно не видно, например, последствия наших поступков в самой широкой перспективе. Мы видим ту сторону явления, которая не открывается нам, если мы смотрим на него в обыденной перспективе.
Но я романист, и, кажется, одну «историю» сам сочинил. Почему я пишу: «кажется», ведь я сам знаю наверно, что сочинил, но мне все мерещится, что это где-то и когда-то случилось, именно это случилось как раз накануне Рождества, в каком-то огромном городе и в ужасный мороз.
Достоевский говорит, что ему кажется, что он сочинил эту историю, но он-то точно знает, что он ее сочинил. Но почему-то ему все же мерещится. А мерещится — это состояние зрения, когда сквозь поверхность проступает что-то более глубокое и как бы собирается в отчетливый образ. С одной стороны, мы этот образ видим, а с другой, не уверены до конца в том, что именно мы видим. Мерещится — это ключевое слово, описывающее праздник, во время которого все радуются, а Христос впервые лежит в смертных пеленах. По сравнению с тем, насколько Он был жив до этого, Он фактически мертв. Достоевский нам рассказывает историю о Рождестве и о смерти.
Мальчик как образ Христа
Мерещится мне, был в подвале мальчик, но еще очень маленький, лет шести или даже менее. Этот мальчик проснулся утром в сыром и холодном подвале. Одет он был в какой-то халатик и дрожал. Дыхание его вылетало белым паром, и он, сидя в углу на сундуке, от скуки нарочно пускал этот пар изо рта и забавлялся, смотря, как он вылетает.
Мать лежит неподвижно на какой-то тонкой, как блин, подстилке. В одном углу находится мертво пьяный халатник. В другом — умирающая тоже нянька. В подвале мальчик — вот нам пещера.
Младенца Христа на знаменитой Владимирской иконе Божией Матери можно описать как мальчика лет шести или даже менее в каком-то халатике. Потому что иконописец пытается изобразить фигуру одновременно младенца по человечеству и взрослого по Божеству. Он изображает мальчика, которого, если воспринимать его в реалистическом ключе, мы видим скорее как шестилетнего, чем как новорожденного. Иконописцы и авторы религиозных картин использовали этот прием, чтобы показать во Христе соединенность в нем разных природ. Посмотрите на картину Андреа Мантеньи «Мертвый Христос»: художник располагает тело Христа так именно для того, чтобы тело взрослого приобрело соотношение пропорций младенца. Он резко укорачивает тело, увеличивает голову, специально уменьшил размер ног. Рождение в вечность, которое он здесь изображает, поддерживается проявляющимся нимбом.
Достоевский тоже любопытным образом изображает нимб: картузишко мальчика, как узел, как бы окружает голову.
Он несколько раз с утра подходил к нарам, где на тонкой, как блин, подстилке и на каком-то узле под головой вместо подушки лежала больная мать его. Как она здесь очутилась? Должно быть, приехала с своим мальчиком из чужого города и вдруг захворала.
Мы понимаем, что Достоевский воспроизводит, по сути, пришествие Богородицы в Вифлеем, куда Она приехала на сносях и где для Нее не нашлось гостиницы. Ее не пустили ни в одну из гостиниц города, именно поэтому наш Бог родился в пещере и в яслях, по сути, в хлеву.
В другом углу комнаты стонала от ревматизма какая-то восьмидесятилетняя старушонка, жившая когда-то и где-то в няньках, а теперь помиравшая одиноко.
Мы знаем, что на классической иконе Рождества в одном из углов изображаются одна или две повитухи, по сути няньки, которые пришли для того, чтобы уже только принять и искупать младенца, потому что Богоматерь родила без их помощи.
А в другом углу лежит мертво пьяный халатник.
Вот и Иосиф, его одеяние — это, конечно, то, что лучше всего описывается словом «халат». Получается, что в центре огромного, холодного города, собирающегося праздновать Рождество, мы видим разоренный вертеп. Ничего не меняется. Как 2000 лет назад, так и в момент написания Достоевским этого текста, мать и ребенок, нуждающиеся в нашей помощи и заботе, которую они не получили тогда, привычно не получают ее и сейчас. Несмотря на 2000 лет христианства, постоянно возобновляющего в нас этот образ, на праздничные балы и елки, проходящие в городе, заходит бедный мальчик, но его туда не пускают. Ему дают копеечку и выводят, даже не покормив, а он все время повторяет: «Господи, как хочется кушать». В городе, изобильном как рождественская елка, где идет пир и праздник, Младенцу Христу, как и 2000 лет назад, места не находится.
Елка познания добра и зла
Елка — это центр Рождества, центр рассказа Достоевского и центр всего «Дневника писателя» Достоевского. Елка — это, конечно, образ древа жизни. На ней фрукты любого сезона, если уж не живые, то хотя бы их изображения. Мы знаем, что центральное древо жизни в Новом Иерусалиме, в городе — невесте Господней, плодоносит каждый месяц. Все 12 месяцев оно приносит новые плоды, что буквально воплощается в этой елке. Когда Достоевский описывает елку, он акцентирует внимание на том, что на ней находятся яблоки и золотые бумажки. Образ приобретает двойственность: с одной стороны, это древо жизни, с другой — древо познания добра и зла, на котором растет тот плод, который мы воспринимаем как сорванный и вкушенный.
Золотые бумажки — это самое близкое выражение денег, буквально бумажное золото. То, чем подменяется жизнь в ситуации сорванного с древа познания добра и зла плода, который есть плод разделения. Это ситуация, когда каждый сам по себе и когда никого не может найти ни Бог, Который ходит по саду и кричит: «Адам, где ты?», ни ближний, от которого мы тоже отгородились внешним человеком, который заточил внутри себя человека внутреннего.
Достоевский наглядно показывает, что ничто не прошло, ничто не дает нам оснований безмятежно праздновать Рождество как воспоминание о далеком празднике, когда Бог пришел к человекам. Эта история продолжается и длится в веках, а мы оказываемся так же жестокосердны, неотзывчивы и неблагодарны, как и ее первые участники. Христос постоянно на нас надеется и к нам взывает в Своем рождении, а мы, готовые праздновать Его Рождество, оставляем Его, новорожденного, на холодной улице.
Самая страшная участь ждет равнодушных
Мальчик в конце концов забивается во дворе дома за кучу дров и за этими дровами умирает от холода. Это тоже мощнейший символ изобилия мира. В нем есть все для того, чтобы человек был счастлив и чтобы ему было тепло, потому что это дрова — то, что может согреть, и их очень много. И за этими дровами мальчик умирает от холода. Дело не в том, что у нас или в мире недостаточно ресурса, а в том, что наше существование на внешнем уровне, отказ идти в собственную глубину, идти к своему собственному доброму, великому, прекрасному, мудрому сердцу, делает любые ресурсы бессмысленными. Делает их такими, что посреди этого изобилия новый, младенческий образ Христа умирает от голода и холода.
Рассказ завершается тем, что Христос наклоняется над ним и говорит: «Пойдем со мной на елку, мальчик». Дальше Достоевский перечисляет детей, которые тоже оказались вместе с ним на елке, — тех, кто буквально в момент написания рассказа только-только умер.
И узнал он, что мальчики эти и девочки все были все такие же, как он, дети, но одни замерзли еще в своих корзинах, в которых их подкинули на лестнице к дверям петербургских чиновников; другие задохлись у чухонок, от воспитательного дома на прокормлении, третьи умерли у иссохшей груди своих матерей (во время самарского голода), четвертые задохлись в вагонах третьего класса от смраду, и все-то они теперь здесь, все они теперь как ангелы, все у Христа, и он сам посреди их.
Он сам посреди них — это совершенно очевидная аллюзия на литургические возгласы и на приветствие, с которым обращаются друг к другу священники в алтаре. Этим возгласом показывается, что Христос посреди таких же, как Он, маленьких детей Христовых, каждый из которых являет Его образ.
Но, конечно, все это перечисление множества умерших младенцев в конце рассказа и в связи с праздником Рождества не может не вызывать у читателей еще одну ассоциацию. Это аллюзия на историю младенцев, убитых по приказу Ирода. Оказывается, то, что однажды происходило по злой воле испуганного возможной конкуренцией правителя, теперь происходит просто из-за нашей, тех, кто называет себя христианами, лени и попустительства. Мы 2000 лет вспоминаем злодейство Ирода и ужасаемся числу убиенных, но каждый год становимся, по нашему безразличию, причиной страданий и гораздо большего количества младенческих смертей, чем когда-либо смог осуществить Ирод. Наши безразличие и безучастность — то, что делает нас воинами иродовыми.
Достоевский подчеркивает на протяжении всей своей короткой, но такой емкой рождественской истории, что капелька участия в любом из встреченных мальчиком людей все бы изменила и спасла. Он перечисляет изобилие смертей, которые произошли сами собой, без активного деятеля. Они случились не потому, что рядом оказался злодей, а потому, что рядом не оказалось никого вовлеченного, потому что все, кто оказался рядом, отвернулись, чтобы не заметить.
По словам Данте, самая страшная участь ждет именно тех, которые не использовали свое сердце и свой ум на земле по назначению, которые ничем не увлеклись, ни о ком не плакали, никому не сострадали. И в результате они — бледные тени, которые едят прах, напитанный их слезами и кровью. Потому что до этого момента им ни слезы, ни кровь не пригодились. Страшный приговор, который выносят Данте… и Достоевский.
Новый шанс
Впрочем, как всегда, Достоевский предоставляет нам еще одну возможность. Мы еще раз столкнемся с нашим отсутствием в бытии, с пребыванием исключительно на уровне внешнего человека. Внешний человек — это человек поглощающий, голодный, человек, непрестанно нуждающийся в пище для своих страстей, для удовлетворения своего представления о себе. А внутренний человек — это, напротив, человек отдающий. Так вот, нас, тех, кто знаком только со своим внешним человеком, кто так и не дал выйти из пещеры, из склепа, человеку внутреннему, ждет следующее Рождество.
История христианства длится 2000 лет для того, чтобы каждый имел возможность в течение этого времени, к любому Рождеству, проснуться сердцем и вместо того, чтобы праздновать его в теплой келье, в теплой церкви или в теплой семье, сделать хоть какой-то маленький шаг навстречу тем, кто по-прежнему замерзает в наших холодных городах.
Подготовила Наталия Щукина по беседе «Достоевский: личный подвиг как общее дело: о Рождестве Христовом»