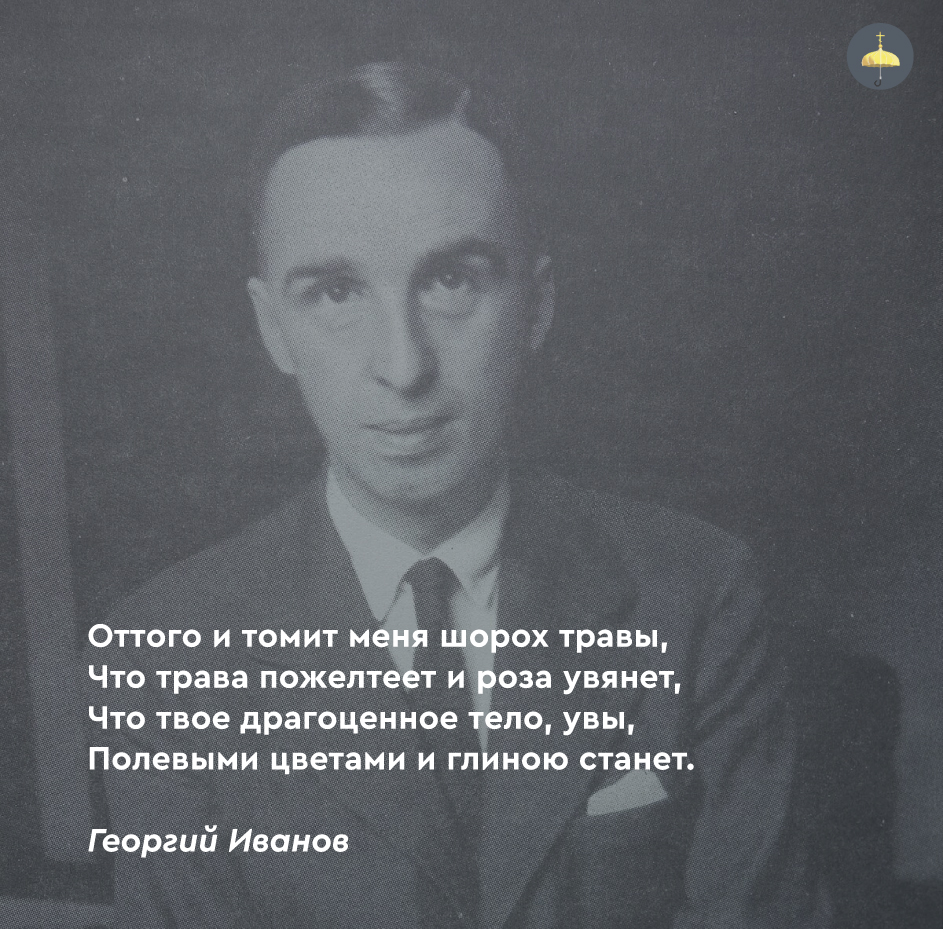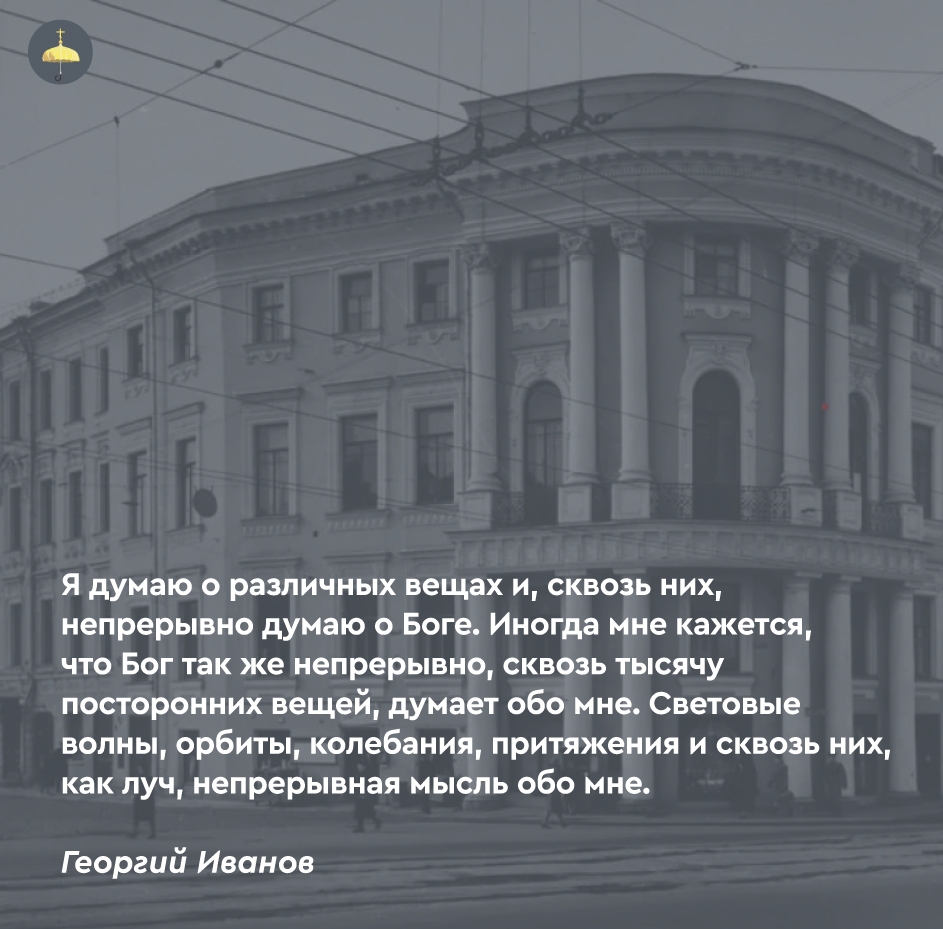10 ноября исполняется 130 лет со дня рождения Георгия Иванова. «Единственным поэтом» русской эмиграции назвал его Георгий Адамович, а Александр Блок отзывался о сборнике его стихотворений как о «памятнике нашей страшной эпохи». Рефлексия рубежа веков, переживания о несовпадении человека и мира, куда он был отправлен, — так можно прочесть поэзию и прозу Георгия Иванова.
Дом и бездомье
Георгий Иванов родился в 1894 году в семье военного в Ковенской губернии (современная Литва). Учился во 2-м Кадетском корпусе в Петербурге, однако учебу оставил: военное дело оказалось ему неинтересно. Первый сборник стихотворений, «Отплытие на остров Цитеру», издал в 18 лет и стал известен в литературных кругах. Был участником объединения эгофутуристов и «Цеха поэтов», возглавил «Цех» после гибели Николая Гумилева. Во втором браке был женат на Ирине Одоевцевой, «лучшей ученице» Николая Гумилева.
В 1922 году уехал из России в Германию, затем переехал во Францию, куда затем переехала и Ирина. Живя в Париже, стал одним из центральных героев первой волны русской эмиграции. Участвовал в работе литературно-философского общества «Зеленая лампа», собиравшегося в квартире Мережковских, был основным сотрудником журнала «Числа», одного из ведущих изданий русского зарубежья.
В конце 30-х годов Георгий и Ирина жили на вилле в Биаррице, доставшейся Одоевцевой по наследству, однако во время немецкой оккупации были вынуждены покинуть дом.
В середине 50-х поэт вместе женой поселяется в пансионате для эмигрантов без гражданства в Йере на юго-востоке Франции. Хотя слишком жаркий климат приморского городка не подходил Иванову, пара не могла переехать: практически не было заработка. В последний год жизни Георгий Иванов тяжело болел, в августе 1958 года он скончался.
Георгий Иванов стал автором 10 сборников стихотворений и нескольких прозаических работ. Ирина Одоевцева пережила мужа на 32 года. Последние три года жизни она провела в России, куда вернулась физически, а не только стихами, как некогда предвидел свою судьбу Георгий Иванов.
Тоска
Тоска, непереводимое, согласно Владимиру Набокову, на другое языки слово, — распространенный мотив в поэзии рубежа XIX–XX вв. Тоска может принимать разные формы — от экзотического эскапизма до мистических переживаний. Ранняя поэзия Иванова испытывает влияние и Гумилева, и Блока. При этом «другой мир» Иванова — скорее абстракция без явного географического или культурного контекста.
Лирический герой Иванова находится в состоянии некоего полусна на границе жизни и не-жизни. Эта граница настолько проницаема, что игнорировать присутствие «второго мира» невозможно.
Мной владеет странная истома,
Жаля душу, как прожитые дни.
Шелест сада грустно-знакомый
Неотступно шепчет: «Усни»…
«Вечерние строфы»
В одном из ключевых стихотворений Иванова этого периода лирическим героем выступает инок — человек, который отказался от мира в прямом смысле и существует между «здесь» и «там». Увядшие азалии инока вполне согласуются с эпохой модерна, склонной к эстетизации смерти.
Он — инок. Он — Божий. И буквы устава
Все мысли, все чувства, все сказки связали.
В душе его травы, осенние травы,
Печальные лики увядших азалий.
Он изредка грезит о днях, что уплыли.
Но грезит устало, уже не жалея,
Не видя сквозь золото ангельских крылий,
Как в танце любви замерла Саломея.
И стынет луна в бледно-синей эмали,
Немеют души умирающей струны…
А буквы устава все чувства связали, —
И блекнет он, Божий, и вянет он, юный.
«Осенний брат»
При этом лирического героя влечет не только танатос. Стремление к жизни, пропущенное сквозь призму искусства, тоже находится в фокусе его внимания. Здесь и признания в любви фламандскому панно («Как я люблю фламандские панно»), и восхищение фарфоровым сервизом («Кофейник, сахарница, блюдца, / Пять чашек с узкою каймой»), и любование старинным кисетом («На старом дедовском кисете»).
Пожалуй, более всего поэзию молодого Иванова критиковали за чрезмерное изящество, нарочитый эстетизм. Владислав Ходасевич писал довольно сурово и, как выяснится впоследствии, пророчески:
…поэтом он станет вряд ли. Разве только случится с ним какая-нибудь большая житейская катастрофа, добрая встряска, вроде большого и настоящего горя. Собственно, только этого и надо ему пожелать.
Много грусти
Мы не знаем, обостряют ли страдания поэтическое восприятие или они — плата поэта за талант. Так или иначе, пожелания Ходасевича сбылись: вынужденный отъезд из России и предшествующие этому события означали для Георгия Иванова точку невозврата.
В 20-е годы, начиная со сборника «Сады», поэзия Иванова становится трагичнее и глубже. Язык его более сдержан, исчезают «туманы и грезы». Взамен приходит способность видеть движение живого вещества в природе, чувствовать вечный цикл умирания-прорастания.
Оттого и томит меня шорох травы,
Что трава пожелтеет и роза увянет,
Что твое драгоценное тело, увы,
Полевыми цветами и глиною станет.
«Оттого и томит меня шорох травы», 1921
Или:
Прекрасное тело смешается с горстью песка,
И слезы в родной океан возвратятся назад.
«Моя дорогая, над нами бегут облака,
Звезда зеленеет, и черные ветки шумят!»
«Зеленою кровью дубов и могильной травы», 1921
Поэта волнует вопрос странствия человека в этом мире и его души — в том. И порой это разделение условно.
Там путник, постучав в гостеприимный дом,
Увидит круглый стол в вечернем полусвете.
Окончен день с его заботой и трудом,
Раскрыта Библия, и присмирели дети…
«Я не пойду искать изменчивой судьбы»
Одними из самых значимых и в то же время пессимистичных текстов Иванова считаются сборники «Розы» (1931 г.) и «Портрет без сходства» (1958 г.). Если до этого встречался пусть и еретический с точки зрения христианства, но все же обнадеживающий мотив перерождения живой сущности, движения души, то в «Розах» автор сосредоточен на мотиве вечного сна. И этот сон означает скорее глухое небытие, чем временный отдых перед возрождением.
Так и надо — навсегда уснуть,
Больше ничего не надо.
«Глядя на огонь или дремля / В опьяненьи полусонном»
Или:
Иль просто — лечь в холодную кровать,
Закрыть глаза и больше не проснуться…
«По улицам рассеянно мы бродим…»
В этих двух сборниках сгущены эмоциональные переживания, здесь же возникает мотив самоубийства:
Синеватое облако
(Холодок у виска)
Синеватое облако
И еще облака…
И старинная яблоня
Зацветает опять
Простодушная яблоня…
(Может быть, подождать?)
«Синеватое облако…»
Или позднее, в «Портрете без сходства», Иванов пишет:
Конечно, есть и развлеченья:
Страх бедности, любви мученья,
Искусства сладкий леденец,
Самоубийство, наконец.
«А люди? Ну на что мне люди?»
При этом автору нельзя отказать в иронии, хотя и довольно мрачной, напоминающей юмор висельника. Еще в Петербурге, в период работы «Цеха поэтов», Георгий Иванов за свое остроумие получил прозвище «общественное мнение».
Одно из стихотворений уже эмигрантского периода считается карикатурным, доведенным до абсурда ответом на поэму Владимира Маяковского «Хорошо!» Автор в качестве эксперимента становится на не до конца близкую ему нигилистическую позицию и приходит к полной потере смысла.
Хорошо, что нет Царя.
Хорошо, что нет России.
Хорошо, что Бога нет.
Только желтая заря,
Только звезды ледяные,
Только миллионы лет.
Хорошо — что никого,
Хорошо — что ничего,
Так черно и так мертво,
Что мертвее быть не может
И чернее не бывать,
Что никто нам не поможет
И не надо помогать.
«Хорошо, что нет Царя»
Расщепление
Георгий Иванов был автором критических статей и мемуаров, а одна из наиболее интересных его прозаических работ — «Распад атома» (1938 г.).
Лирический герой-рассказчик — фланёр на парижских улицах, один из тысячи таких же «атомов», «заключенных в непроницаемую броню одиночества». Текст — это монолог героя, близкий к потоку сознания. Опираясь на случайные впечатления (люди на улицах, посетители в кафе), герой подходит к крайним экзистенциальным категориям — жизнь и смерть, свобода и одиночество, Бог и Его отсутствие в этом мире.
Поэма в прозе была встречена неоднозначно: ее находили эпатажной из-за отдельных довольно смелых описаний. Набоков называл текст «брошюркой с ее любительским исканием Бога и банальным описанием писсуаров». На оценку Набокова, вероятно, влияет давняя неприязнь, установившаяся между двумя писателями. Быть может, поэтому его мнение не стоит считать образцом суждения.
В «Распаде атома» много искренности, обнаженности, на которую в прозе порой труднее решиться, чем в поэзии. Много дерзости — даже по современным меркам. Много нежности, гордыни и отчаяния. При этом драматургически мотив отчаяния героя понятен — он теряет возлюбленную.
Я хочу самых простых, самых обыкновенных вещей. Я хочу заплакать, я хочу утешиться. Я хочу со щемящей надеждой посмотреть на небо. Я хочу написать тебе длинное прощальное письмо, оскорбительное, небесное, грязное, самое нежное в мире. Я хочу назвать тебя ангелом, тварью, пожелать тебе счастья и благословить, и еще сказать, что где бы ты ни была, куда бы ни укрылась — моя кровь мириадом непрощающих, никогда не простящих частиц будет виться вокруг тебя. Я хочу забыть, отдохнуть, сесть в поезд, уехать в Россию, пить пиво и есть раков теплым вечером на качающемся поплавке над Невой. Я хочу преодолеть отвратительное чувство оцепенения: у людей нет лиц, у слов нет звука, ни в чем нет смысла. Я хочу разбить его, все равно как. Я хочу просто перевести дыхание, глотнуть воздуху. Но никакого воздуха нет.
«Распад атома»
В определенном смысле это текст-истерика, в котором герой, как бунтующий подросток, пытается поговорить с родителями. Но вместо этого только спорит и кричит, не слыша. Герой поэмы ищет Бога, но вряд ли Его находит. Вера для него — скорее минута слабости, не более.
Я думаю о различных вещах и, сквозь них, непрерывно думаю о Боге. Иногда мне кажется, что Бог так же непрерывно, сквозь тысячу посторонних вещей, думает обо мне. Световые волны, орбиты, колебания, притяжения и сквозь них, как луч, непрерывная мысль обо мне. Иногда мне чудится даже, что моя боль — частица Божьего существа. Значит, чем сильнее моя боль… Минута слабости, когда хочется произнести вслух — «Верую, Господи…» Отрезвление, мгновенно вступающее в права после минуты слабости.
«Распад атома»
И даже смерть, по заключению героя, не является освобождением. Он — атом «мирового уродства» и, умирая, не привносит и не уносит из этого мира ничего. Проявления этого уродства — препятствие для полного рассудочного принятия Бога. Однако попытка выйти если не на диалог, то хотя бы на монолог с Господом накануне Второй мировой войны кажется смелым шагом и вызывает сочувствие.
Россия
Возможно, эмиграция стала для Георгия Иванова тем опытом, который обострил изначально заложенный в нем конфликт «Я-и-Мир». И в результате способствовал созданию сильных самодостаточных стихов. Россия становится еще одной темой, связанной с околосмертными переживаниями, и, кроме того, образом места, куда возможен возврат после воскресения. Хотя бы в виде слов.
В ветвях олеандровых трель соловья.
Калитка захлопнулась с жалобным стуком.
Луна закатилась за тучи. А я
Кончаю земное хожденье по мукам,
Хожденье по мукам, что видел во сне —
С изгнаньем, любовью к тебе и грехами.
Но я не забыл, что обещано мне
Воскреснуть. Вернуться в Россию — стихами.
«В ветвях олеандровых трель соловья»
Возвращение
Георгий Иванов оказался прав — он действительно вернулся в Россию стихами. В 1987 году подборка его стихотворений была впервые опубликована в нашей стране в журнале «Знамя».
Существует мнение: любое настоящее искусство религиозно. Поэзию и прозу Георгия Иванова сложно считать христианской, однако в определенном смысле можно считать религиозной. Эта религиозность считывается в сомнении и поиске, свидетельствующих о жизни души. В смелых попытках говорить с Богом, хотя этот разговор похож на игру в глухой телефон. Да и в присущей всей поэзии надежде на то, что «весь я не умру — душа в заветной лире мой прах переживет и тленья убежит»…