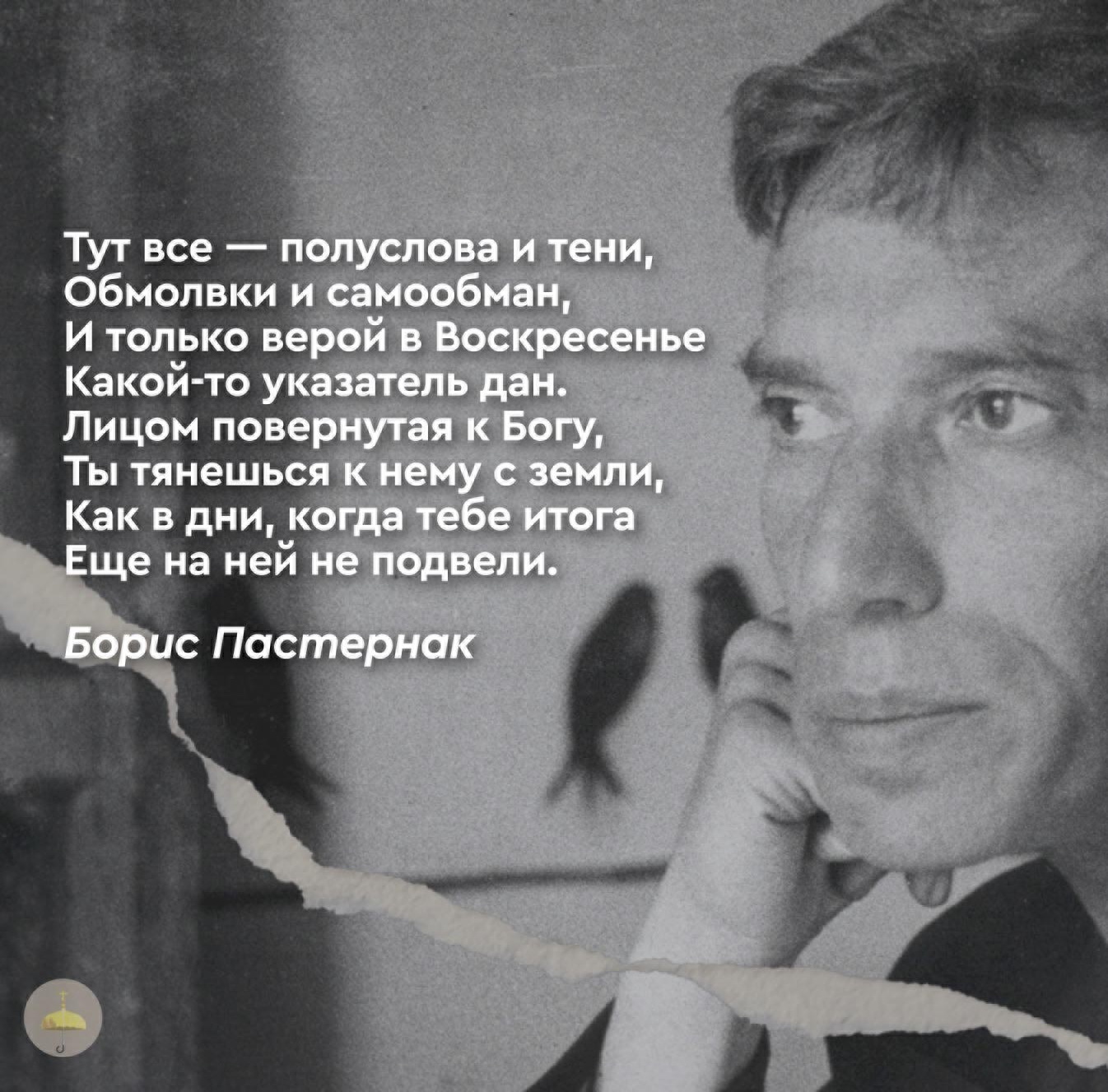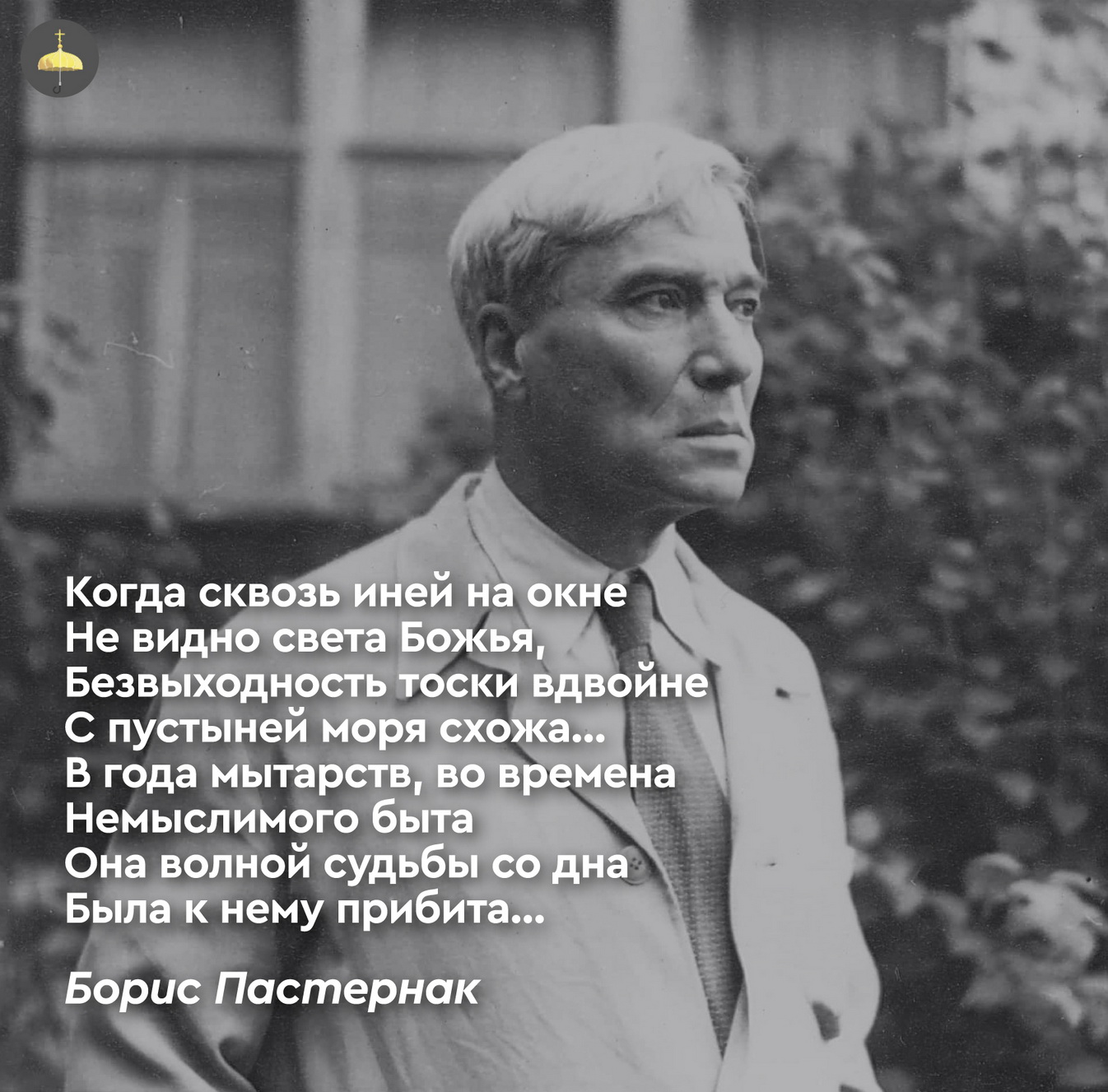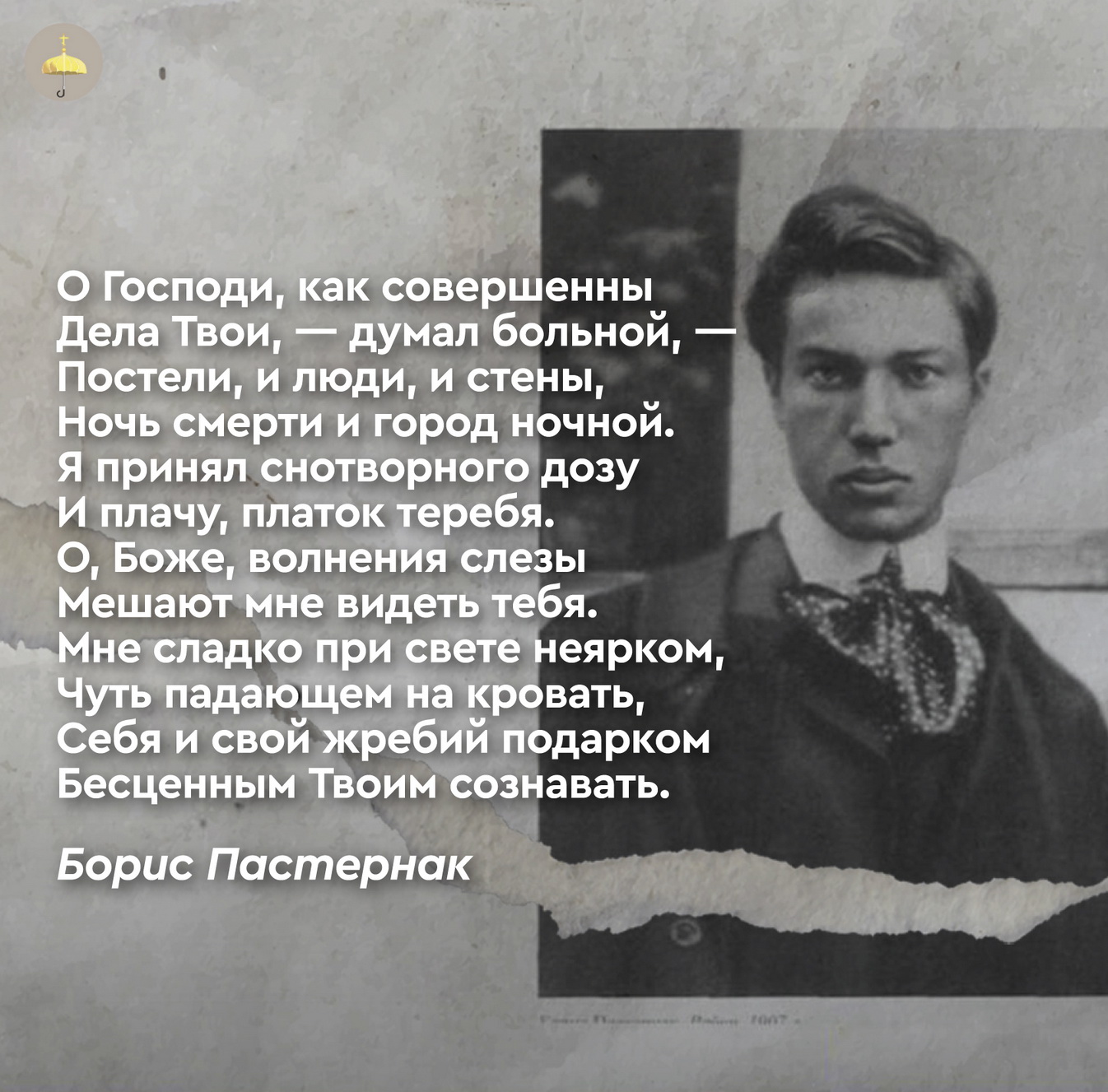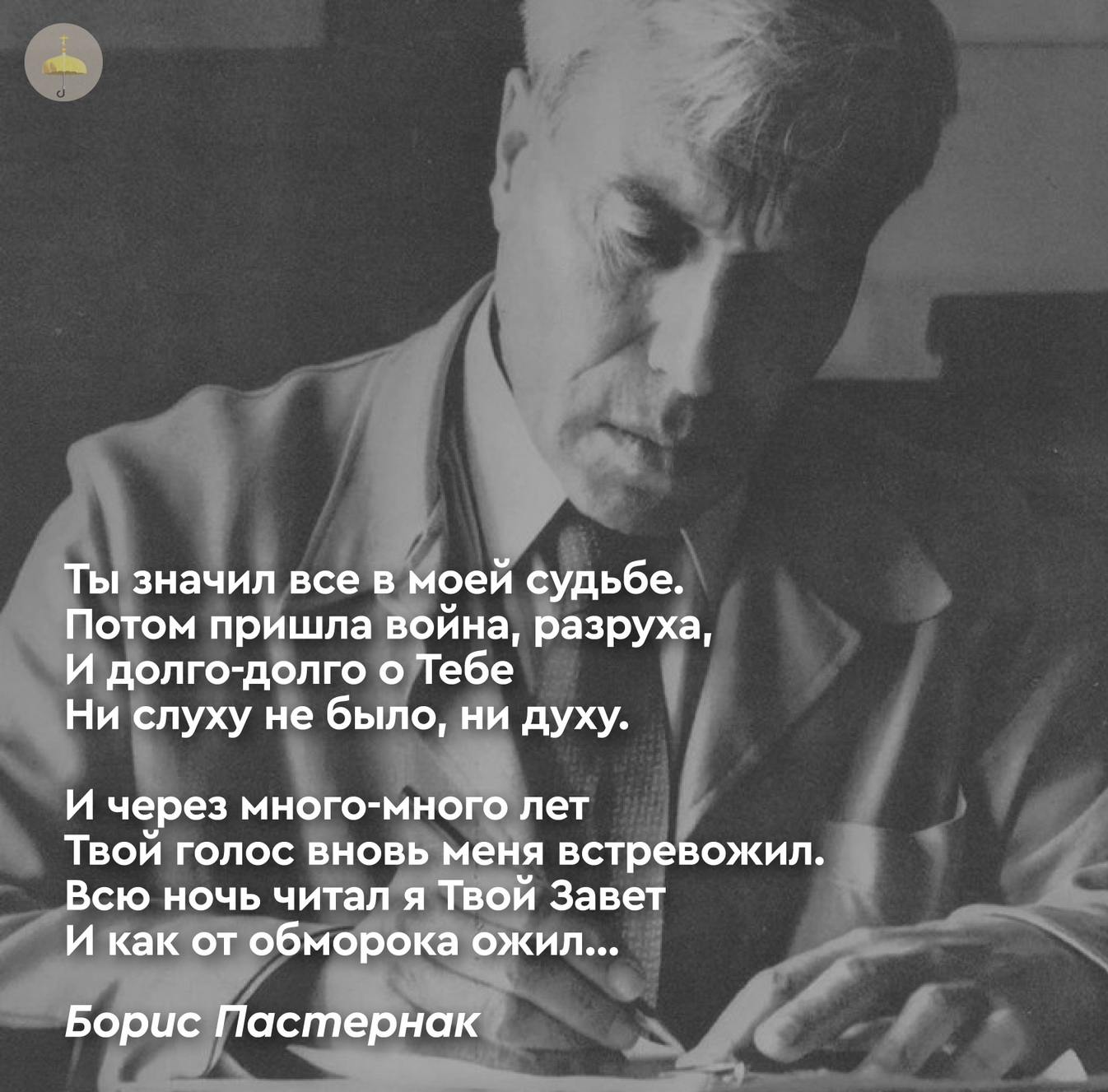10 января 2025 года — 135 лет со дня рождения Бориса Пастернака. Борис Леонидович Пастернак обладал удивительным даром чувствовать жизнь — как сестру, как живое существо рядом, воспринимать и принимать в ней все, что происходит, со всеми ее остановками и кошмарами. До конца дней своих сохранил чувство новизны, свежести, любви и радости существования. О роли христианства в жизни и творчестве Бориса Пастернака рассказывает лингвист Татьяна Ионова.
Семья и детство
Отец — Леонид Осипович Пастернак, художник, мама — Розалия Исидоровна Кауфман, известная пианистка. Поженившись, молодые переехали из Одессы в Москву, сняли квартиру в доме купца Веденеева в Оружейном переулке.
Творческий дух витал в семье постоянно, это был такой густой воздух из живописи, музыки, и работы мысли.
Борис Пастернак с самого детства был одарен потрясающей восприимчивостью ко всему вокруг, уникальным воображением и способностью выстраивать сюжеты, рассказывая о том, что происходит на самом деле, когда звучит та или иная музыка.
В семье о вере практически не говорили, но было свое таимое и хранимое у каждого члена семьи: их объединяла готовность нести все тяготы жизни еврейства в Российской империи.
И, хотя крещение было невозможно для Пастернака, тем не менее он считал себя крещеным. У Бориса была няня Акулина Гавриловна, которая водила его в церковь. Из воспоминаний старшего сына Бориса Пастернака Евгения: «Окропив его во имя Отца и Сына и Святого Духа, она (няня) уверила, что нет препятствия к его участию в службе». Пастернак ощущал себя христианином всю жизнь.
Чувство жалости и сочувствия к окружающим было свойственно Пастернаку с детства. На улице он замечал горести, нищету, какие-то тяготы, неурядицы и очень живо на это отзывался всем сердцем. Особенно это относилось к женщинам. Однажды они с няней были в зоосаде, где показывали парад дагомейских амазонок, личной охраны африканского монарха: это были обнаженные женщины, сомкнутые в строй. Пастернак был навсегда пронзен чувством униженности и подневольности этих женщин. «Я ранен женской долей», — говорил он. Это отразилось на всем его творчестве, и на стихах, и на прозе:
У женщины в ладони,
У девушки в горсти
Рождений и агоний
Начала и пути.
Лет до двенадцати Борис рисовал много, бурно, о себе он говорил, что вполне мог бы стать художником, участвовал в профессиональной жизни отца, исполняя роль модели, статиста.
6 августа 1903 года (праздник Преображения Господня по старому стилю) с Борисом произошел несчастный случай. Он позировал отцу на природе для картины «В ночное», вскочил на неоседланную лошадь, лошадь понесла и сбросила его.
Сломанная нога срослась неправильно, на всю жизнь осталась короче другой, но Пастернак был из-за этого избавлен от участия во всех последующих войнах.
А для Пастернака праздник Преображения Господня стал связан с пробуждением внутри него поэта и музыканта. Он прочувствовал, проговаривал про себя бешеную скачку, ритм галопа, понял, что слова могут подчиняться музыкальному ритму, можно соединить стихию музыки со стихией слов.
«Так затевают ссоры с солнцем. Так начинают жить стихом»
Состоялось знакомство семьи со Скрябиным. Борису запомнился ожесточенный спор между композитором и Леонидом Осиповичем о том, что художнику позволено больше, чем простому смертному: этих идей придерживался Скрябин, и Борис принял его точку зрения.
Пастернаку казалось, что он всемогущ, может «затевать ссоры с солнцем», в гордыне его потом обвиняли очень многие.
Скрябин возбудил у Бориса сумасшедшую жажду стать великим, которому все позволено. Он занялся композицией, музицировал, читал с листа. Но его страстью была импровизация, способность оживлять музыку, а за музыкой всегда стоял какой-то сюжет:
Я клавишей стаю кормил с руки
Под хлопанье крыльев, плеск и клекот…
Во всем этом была одна проблема, которую Борис ощущал как беду. У него не было абсолютного слуха.
Между прочим, у его кумира, Скрябина, тоже не было абсолютного слуха, а еще не было его и у некоторых великих композиторов. Но в силу своей всеобъемлющей одаренности Борис не мог допустить, чтобы что-то было не безупречно.
Слова уже взрослого Пастернака: «Я вырвал музыку вон из себя».
Марбург. «Прощай, философия»
Будучи студентом историко-филологического отделения Московского университета, Борис увлекся философией, решил поехать в Марбургский университет на семинар профессора философии Германа Когена, стал одним из лучших его учеников.
Но чем больше Борис занимался философией, тем больше ему казалось, что философия ему тесна, она накладывает на него неудобные и несвойственные ему рамки.
В Марбурге Пастернак безнадежно влюбился в девушку, которой давал уроки геометрии. Девушка его не узнала глубоко, не оценила, не поняла, что он сильно влюблен.
Борис сделал ей предложение и получил отказ:
Я вздрагивал. Я загорался и гас.
Я трясся. Я сделал сейчас предложенье, —
Но поздно, я сдрейфил, и вот мне — отказ.
Как жаль ее слез! Я святого блаженней.
А дальше — о способности Пастернака возрождаться. Борис воспринял эту ситуацию как освобождение, в том числе и от философии, которая его сковывала.
Он еще великолепно написал несколько рефератов, добился огромной чести быть приглашенным на обед лично Когеном, но все это для него уже было неважно: он почувствовал, что все-таки должен заняться творчеством. В Марбурге на доме, где он снимал комнатку, висит табличка со словами «Прощай, философия».
«Февраль. Достать чернил и плакать»
В конце 1912 года Пастернак вернулся в Москву и попал в бурный водоворот Серебряного века, время брожений и литературных объединений, которые враждовали друг с другом. Приехал с тетрадкой стихов, будущим сборником «Близнец в тучах». Его взял под крыло Сергей Бобров.
Сначала они организовали литературную группу «Лирика», а потом создали целое собственное футуристическое издательство «Центрифуга». Считали, что альманах «Руконог», первый сборник, выпущенный «Центрифугой», — это истинные футуристы, в отличие от всех прочих.
А все прочие — это были Давид Бурлюк, Хлебников, Маяковский.
Группировка «всех прочих» вызвала «Центрифугу» на разговор в «Литературное кафе» на Арбате.
Так познакомились Пастернак и Маяковский — и страшно понравились друг другу, возникли теплые, приязненные отношения.
Февраль. Достать чернил и плакать!
Писать о феврале навзрыд,
Пока грохочущая слякоть
Весною черною горит.
Достать пролетку. За шесть гривен,
Чрез благовест, чрез клик колес,
Перенестись туда, где ливень
Еще шумней чернил и слез.
Война. «Урал впервые»
Первая мировая война. Борис работал гувернером в семье Морица Филиппа, немецкого промышленника.
В 1916 году подвернулась возможность поработать помощником управляющего по финансовой части на химических заводах Урала. Урал произвел на Пастернака впечатление огромности:
Без родовспомогательницы, во мраке, без памяти,
На ночь натыкаясь руками, Урала
Твердыня орала и, падая замертво,
В мученьях ослепшая, утро рожала.
По возвращении с Урала Пастернак выпустил сборник «Поверх барьеров».
Первая революция. «Я жизнь, как Лермонтова дрожь, как губы в вермут окунал»
Буквально на одном дыхании, за лето 1917 года родилась совершенно уникальная книга стихов, «Сестра моя — жизнь».
Первая революция была воспринята восторженно, благодаря пастернаковской метафоричности — окружающая природа участвует в том, что делают люди, деревья митингуют, птицы устраивают забастовку. Все было пронизано совершенно волшебным ощущением жизни, ее полноты, радости. Это, наверное, самая счастливая книга стихов из всей русской литературы.
Цветаева называла эту книгу «световым ливнем», а сестры Синяковы рекомендовали для радости принимать ежедневно «по пять капель Пастернака».
Мандельштам писал: «Стихи Пастернака почитать — горло прочистить, дыхание укрепить, обновить легкие, такие стихи должны быть целебны от туберкулеза».
Самое удивительное, что они слагались «чем случайней, тем верней». По свидетельству самого Пастернака, он брал перо — и дальше сразу же рождалось стихотворение, без помарок, в готовом виде.
Что послужило толчком? Любовь. Это была новая девушка — Елена Виноград, она попросила Бориса подписать ей сборник «Поверх барьеров», а он посмотрел и ужаснулся, ведь девушка была чиста и не испорчена — эти стихи ей не подходили. Пастернак лично для Елены стал писать новую книгу стихов на оборотных листах сборника «Поверх барьеров»:
Давай ронять слова,
Как сад — янтарь и цедру,
Рассеянно и щедро…
Ты спросишь, кто велит,
Чтоб губы астр и далий
Сентябрьские страдали?
Чтоб мелкий лист ракит
С седых кариатид
Слетал на сырость плит
Осенних госпиталей?
Ты спросишь, кто велит?
— Всесильный Бог деталей,
Всесильный Бог любви…
Или «Воробьевы горы»:
Говорят — не веришь. На лугах лица нет,
У прудов нет сердца, Бога нет в бору.
Расколышь же душу! Bсю сегодня выпей.
Это полдень мира. Где глаза твои? …
Дальше — Воскресенье, ветки отрывая,
Разбежится просека, по траве скользя.
Просевая полдень, Троицын день, гулянье,
Просит роща верить: мир всегда таков
Так задуман чащей, так внушен поляне,
Так на нас, на ситцы пролит с облаков.
Как можно думать, что «Бога нет в бору», да вот же Он везде здесь, вот! Бог здесь, благодаря преображающей силе любви, это же любовь осветила этот мир, и «воцарился полдень мира»!
«Теперь ты — бунт. Теперь ты — топки полыханье»
Уже летом 1917 года чувствовалась тревога, потом она возросла, и Октябрь обрушился чудовищным бедствием, крушением восторженных надежд. Начался голод, Пастернак тяжело болел.
А еще произошла болезненная, поворотная для Бориса трагедия. Двух членов Учредительного собрания, которые оба тяжело болели и находились в больнице, охраняющие их пьяные матросы убили.
Для Пастернака это был страшный удар, у него же вся природа участвует в событиях, потряслись основы его мироздания, накрыл тяжелейший духовный кризис:
Стал забываться за красным желтый
Твой луговой вдохновенный рассвет,
Где Ты? На чьи небеса ушел Ты?
Здесь, над русскими, здесь Тебя нет…
Не так давно было обнаружено стихотворение «Русская революция»:
Как было хорошо дышать тобою в марте
И слышать на дворе, со снегом и хвоей
На солнце, поутру, вне лиц, имен и партий
Ломающее лед дыхание твое!
Казалось, ночь свята, как копоть в катакомбах…
Теперь ты — бунт. Теперь ты — топки полыханье.
И чад в котельной, где на головы котлов
Пред взрывом плещет ад Балтийскою лоханью
Людскую кровь, мозги и пьяный флотский блев…
Это была первая реакция на Октябрьскую революцию, и это было слишком однозначной оценкой, от этого стихотворения веет непозволительной, как Пастернаку казалось, правотой. А Пастернак не мог допустить однозначной правоты, однозначной оценки в своих стихах. Последняя правота — она только наверху.
Кроме того, Пастернак считал, что стихи, написанные по случаю, на злобу дня, — это не поэзия. Поэзия вырывает за рамки, возносится не над схваткой, а просто возносится. Должно произойти Преображение. А здесь его нет.
«Хотя, как прежде, потолок, служа опорой новой клети, тащил второй этаж на третий…»
1921 год. Тяжелое, болезненное существование для Пастернака и всей его семьи, невозможность честным трудом талантливым людям зарабатывать себе на жизнь.
Надо было исхитряться, пролезать, расталкивать локтями, заводить нужные знакомства, правильным образом домогаться подачек от государства. Пастернаки говорили: «Кто работает, тот не ест».
Мучительная и недостойная зависимость от государства стояла поперек горла, родители Пастернака и две его младшие сестры уезжают за границу.
Братья остались в Москве. В 1921 году Пастернак познакомился с Евгенией Лурье, она была художницей, училась в Москве в Училище ваяния и зодчества. На чьем-то дне рождения ее восхитило, что Борис поделился с нею водкой, она это восприняла как редкую душевную щедрость. Потом он ее пригласил к себе, так завязался их роман, ее родственники были в недоумении, как он собирается содержать семью, а это был вопрос очень болезненный.
Как содержать семью? Юношеские увлечения Скрябиным и идеями, что гениям там что-то позволено, ушли. Изволь соответствовать.
Пастернак пытался печататься в объединении ЛЕФ Маяковского, его это стесняло, те самые рамки, все больше проглядывали, все более сервильными становились стихи:
Я знаю, ваш путь неподделен,
Но как вас могло завести
Под своды таких богаделен
На искреннем вашем пути?
Пастернаку во всех объединениях было тесно, он не мог до конца себя выразить. Как только появилась возможность, он дистанцировался, заявил, что не может больше печататься в ЛЕФе, попросил вычеркнуть свою фамилию из числа членов редколлегии. Не вняли, еще несколько лет эта фамилия там болталась, это привело к настоящей ссоре между Пастернаком и Маяковским.
Хотя, как прежде, потолок,
Служа опорой новой клети,
Тащил второй этаж на третий
И пятый на шестой волок,
Внушая сменой подоплек,
Что все по-прежнему на свете,
Однако это был подлог…
«Лицом повернутая к Богу…» Пастернак и Цветаева
Пастернак разминулся с Цветаевой, когда она жила в Москве, только потом его догнали ее «Версты», он был очарован, послал восторженное письмо, она ответила ему сторицей.
Это переросло в роман, но только эпистолярный. Они не могли встретиться, трудно стало получать выездные визы. Пастернак оказался заперт в стране, хотя в какой-то момент, в районе 1925 или 1926 года, он был готов сбежать к Цветаевой — такого накала, эмоционального напряжения и взаимного обожания достигла их переписка.
В августе 1941 года Цветаева покончила с собой, Пастернак считал, что основная вина лежит на нем:
В молчаньи твоего ухода
Упрек невысказанный есть.
Когда Марина приехала в Россию, Пастернак познакомил ее со всей литературной Москвой. Пытался добиваться, чтобы ее печатали, помогал с переводами:
Тут все — полуслова и тени,
Обмолвки и самообман,
И только верой в Воскресенье
Какой-то указатель дан.
Лицом повернутая к Богу,
Ты тянешься к нему с земли,
Как в дни, когда тебе итога
Еще на ней не подвели.
Чувствуется духовная сторона творческого возрождения, которое пережил Пастернак.
Пастернак и Зинаида Николаевна
Пастернак знакомится с двумя семьями — пианиста Генриха Нейгауза и Валентина Асмуса, профессора философии и культурологии.
Летом 1930 года все поехали в поселок Ирпень под Киевом, сняли дачи вместе. Это было яркое, незабываемое время, которое закончилось влюбленностью. А влюбленности у Бориса Леонидовича протекали таким образом, что, когда любит поэт, влюбляется Бог неприкаянный. Зинаида Николаевна Нейгауз была объектом этой неконтролируемой и бурной страсти.
Я просыпаюсь. Я объят
Открывшимся…
Новое вдохновение вернуло его к жизни, поэтому сборник назывался «Второе рождение». Но это рожденье было не простым, распадались две семьи.
Сила влюбленности была совершенно непреодолима, да еще примешивался квартирный вопрос: новой семье негде было жить.
Свежезарождающийся Союз писателей выделил им очень маленькую квартирку — туда сначала въехали Пастернак с Зинаидой Николаевной, потом переехала Евгения Владимировна с сыном.
Союз писателей. В ногу со временем
Рубеж 30-х годов связан еще с одной вехой в жизни Пастернака — с попыткой идти в ногу со временем, как он сам говорил, сделать интересы общества своими. Тем более что Зинаида Николаевна, будучи убежденной коммунисткой, его в этом поддерживала. Общение с писателями было для Пастернака всегда важным, но прежде всего он это воспринимал как личное общение.
Союз же писателей — это организация с бесконечными собраниями, и собрания начались еще задолго до первого съезда, были низовые ячейки, вырабатывались какие-то курсы следования, и Пастернак во всем этом участвовал.
Первый съезд Союза писателей состоялся в 1934 году. Пастернак выступил, он призывал писателей не жертвовать лицом ради положения, не терять себя ради каких-то привилегий, не кричать в унисон. Этот период ознаменован тем, что Пастернак постоянно пытался противостоять атмосфере, когда одни травят других, когда вырабатывается какая-то одна общая линия поведения для всех писателей, и дальше писатели обязаны этому соответствовать, придумывать язык обвинений и самообвинений, раскаиваться в том, что не соответствовали.
Поэтому первая половина 30-х годов — это такие качели: периодически его возносили, особенно Бухарин старался, он считал, что Пастернаку нет равных, что это величайший из ныне живущих поэтов в Советском Союзе. А для Пастернака это было страшно. Он чувствовал двойственность своего положения, как будто огромный кредит, который ему всучили почти насильно и который он не в состоянии отдать.
В 1931/1932 годах Пастернак ездил с бригадами писателей в Челябинск и в Свердловск. Поездки были организованы для воспевания масштабных коммунистических строек, но, кроме этого, в дороге Пастернак видел толпы голодных людей, эшелоны раскулаченных, горе, страдание.
Питались писатели при партийной столовой, а кругом были люди, просто умирающие с голоду. Пастернак этого вынести не мог, он пытался всех кормить, все раздать всем.
По возвращении Пастернак обнаружил, что должен денег за эту поездку и должен отчитаться хвалебными стихами или статьями.
Двойственное положение, когда не просто его избрали и хвалят, а его хвалят в противопоставление кому-то гонимому, было совершенно неприемлемо для Бориса Леонидовича: он пытался вставать на защиту людей, которых травили.
Фальшь его положения привела к тяжелому нервному расстройству с бессонницей, с навязчивыми мыслями и идеями.
В 1935 году Пастернака посылают в Париж на антифашистский конгресс «В защиту культуры»: конгрессу требовались живые, настоящие, не сервильные поэты.
Есть две версии его выступления на конгрессе. По одной из них, он произнес несколько малозначащих слов о поэзии, а по другой версии — умолял собравшихся больше не собираться, потому что для поэзии, для литературы и для культуры в целом все эти собрания приносят один вред.
Дальше все туже и туже закручиваются гайки, все больше людей пропадает — для Пастернака это период, когда голос у него отнят. Он не может писать собственные стихи и полностью уходит в переводы.
Но чем чаще бывали в творчестве поэта периоды глухого молчания, тем ярче проявлялась его вера в жизнь, и за эту веру он готов был многое отдать.
«Здравствуйте, с вами будет говорить Сталин»
1934 год. Арест Осипа Мандельштама. Пастернак связывается с Бухариным с просьбой содействовать его освобождению. Вдруг на московской квартире раздается телефонный звонок. Поскребышев, секретарь Сталина, представился, сказал: «Здравствуйте, с вами будет говорить Сталин».
Пастернак оказался в сложном положении. Он не мог открыто заявить о том, что они с Мандельштамом близкие друзья, потому что тогда возник бы вопрос, слышал ли Пастернак стихотворение о Сталине: «Мы живем, под собою не чуя страны…»
Следовало вести себя очень осторожно. Сталин спросил: «Почему вы защищаете товарища?» Пастернак ответил, что, вероятно, Иосиф Виссарионович и не узнал бы об аресте Мандельштама, если бы не его попытки защитить товарища. Сталин спросил, насколько близок ему Мандельштам, на что Пастернак ответил: «Мы, поэты, ревнуем друг друга, как женщины, но, по оценкам экспертов, Мандельштам — большой поэт».
«Душа моя, печальница о всех в кругу моем…»
1935 год. Арест Николая Пунина и Льва Гумилева. Ахматова приезжает в Москву, останавливается у Пастернака. Пастернак пишет письмо Сталину. Через три дня Пастернаку лично опять звонит Поскребышев и отчитывается перед ним в том, что Пунин и Гумилев на свободе.
1937 год. Арест Бухарина. Пастернак в очень сложном положении, потому что Бухарин был главным его покровителем. Пастернак дает телеграмму его жене о том, что никогда не верил и не поверит в виновность Бухарина.
В августе власти потребовали от Пастернака поставить подпись под письмом, одобряющим расстрел военачальников: Тухачевского, Якира и других. Пастернак наотрез отказался, объяснив, что не он давал жизнь этим людям и у него нет права эту жизнь отнять.
Позже выяснилось, что партийно-писательское начальство самостоятельно поставило подпись Пастернака под этим письмом.
Это было страшным ударом, Пастернак кричал: «Меня убили», поехал в Москву требовать напечатать опровержение в газете, настаивал, что он это письмо не подписывал.
Сразу после ареста Бориса Пильняка, соседа по даче в Переделкине, Пастернак помчался поговорить с его женой.
Грузинский поэт Паоло Яшвили накануне ареста застрелился.
Следом был арестован Тициан Табидзе, буквально через несколько месяцев.
Пастернак тут же пишет глубокое и трогательное письмо вдове Паоло Яшвили, а Нина Табидзе приезжала к Пастернакам.
Варлам Шаламов, просидевший без малого 20 лет, не особо надеясь на ответ, послал свои стихи Пастернаку. Пастернак откликнулся и очень серьезно с огромным уважением разбирал эти стихи, у них была длительная и глубокая переписка. На Шаламова сильно повлияли слова Пастернака о том, что бесчеловечность режима еще не делает человека человеком, необходимо быть человеком — независимо от того, каков режим.
Ариадна Эфрон, потерявшая всю семью, находилась в ссылке в Туруханске до 1956 года. Пастернак регулярно посылал почтовые денежные переводы.
Константин Богатырев, молодой переводчик, рассказывал о том, что ему писали в лагерь два человека — мать и Пастернак.
Пастернак вел себя так, как почти никто себя не вел. В то время, когда человека арестовывали, вокруг него тотчас же образовывался вакуум. Пастернак вел себя ровно наоборот:
Душа моя, печальница
О всех в кругу моем,
Ты стала усыпальницей
Замученных живьем…
И дальше перемалывай
Всё бывшее со мной,
Как сорок лет без малого,
В погостный перегной.
Стихотворение было написано в 1956 году, сорок лет без малого — это 1917 год.
«Это, как прежде, снова весна…»
Перед войной Пастернак переживает творческий подъем, он попал в опалу: его перестали печатать, он оставил попытки идти в ногу с государством, почувствовал освобождение:
Это, как прежде, снова весна.
Это, зубами стуча от простуды,
Льется чрез край ледяная струя
В пруд и из пруда в другую посуду, —
Речь половодья — бред бытия.
Продолжаются особенные отношения с окружающим миром, с природой, когда Пастернак слышит что-то недоступное другим.
«Он еще не старик и укор молодежи, а его дробовик лет на двадцать моложе…»
Когда началась война, Пастернак наотрез отказался уезжать в эвакуацию, остался в Переделкине, посещал стрелковую школу.
В Москве, в Лаврушинском переулке, на огромной крыше московской квартиры тушил зажигательные бомбы, вел крайне аскетичную жизнь, сочинял стихи, которые потом вошли в книгу «На ранних поездах».
Пастернак несколько раз выезжал на фронт в составе писательских бригад, писал статьи, которые отличались трезвым взглядом на происходящее, поэтому никто печатать их не торопился, уж слишком они отличались от общего шапкозакидательского стиля тогдашней публицистики.
«Когда сквозь иней на окне не видно света Божья…»
Осенью 1946 года Пастернак познакомился с Ольгой Ивинской, ставшей прототипом главной героини романа «Доктор Живаго», они стали встречаться, возникло чувство, противостоять которому Пастернак не мог: это было какое-то небесное счастье.
В 1949 году Ольгу, беременную, арестовали. Пастернак каждый день приходил на Лубянку, кричал, чтобы взяли его, а ее выпустили, приносил с собой детские вещи, в надежде забрать новорожденного, но в тюрьме Ивинская ребенка потеряла.
Пастернаку случайно удалось передать Ольге в заключение целую стихотворную тетрадку, большая часть стихов из которой потом вошла в «Стихотворения Юрия Живаго»:
Когда сквозь иней на окне
Не видно света Божья,
Безвыходность тоски вдвойне
С пустыней моря схожа…
В года мытарств, во времена
Немыслимого быта
Она волной судьбы со дна
Была к нему прибита…
В 1952 году Пастернак пережил тяжелый инфаркт, лежал в коридоре Боткинской больницы, был уверен, что умирает. В те дни он пережил острое счастье от близости к Богу, соединение с Ним:
О Господи, как совершенны
Дела Твои, — думал больной, —
Постели, и люди, и стены,
Ночь смерти и город ночной.
Я принял снотворного дозу
И плачу, платок теребя.
О, Боже, волнения слезы
Мешают мне видеть тебя.
Мне сладко при свете неярком,
Чуть падающем на кровать,
Себя и свой жребий подарком
Бесценным Твоим сознавать.
Кончаясь в больничной постели,
Я чувствую рук Твоих жар.
Ты держишь меня, как изделье,
И прячешь, как перстень, в футляр.
В 1953 году умер Сталин. Ольгу Ивинскую отпустили:
Одна средь снегопада
Стоишь ты на углу.
Течет вода с косынки
По рукаву в обшлаг,
И каплями росинки
Сверкают в волосах…
«Гул затих, я вышел на подмостки…»
Роман «Доктор Живаго» был дописан в 1956 году, он весь пронизан христианством и просвечен верой.
Создается ощущение, что к этому времени Пастернак ничего уже не боялся, у него была только вера в Бога, а то, будут его печатать или не будут, и вообще все писательские неурядицы его перестали волновать.
Первоначально роман назывался «Мальчики и девочки»: это то самое поколение, родившееся в конце XIX века и успевшее сформироваться до революции:
Мы были музыкой во льду.
Я говорю про всю среду,
С которой я имел в виду
Сойти со сцены, и сойду.
Это роман-панихида.
Тема панихиды, отпевания пронизывает весь роман. Он начинается с фразы: «Шли и шли и пели «Вечную память…» Заканчивается — смертью главного героя и сокрушением по поводу того, что не удалось его отпеть по-человечески. Это последнее поколение, мерившее время церковными праздниками. Когда все временные отсылки в романе смазаны, перепутаны или нарушены, постоянно упоминается или канун Покрова, или Страстная, или еще какой-нибудь праздник.
Роман о поколении, которое оказалось разорвано на тех, кто не пережил годы революции и красного террора, на тех, кто принимал в революции активное участие, наломал дров, кто вынужден был эмигрировать и кто не эмигрировал и приспособился, «обольшевичился». Все эти категории людей в романе описаны.
Главный герой — Юрий Андреевич Живаго, врач и поэт, он глубоко воцерковлен.
Другой персонаж — Павел Павлович Антипов, он же Стрельников. Этот начинает активно участвовать сначала в военных действиях в Первую мировую войну, а потом в революции.
Пастернак постоянно противопоставляет героев друг другу. У Живаго — безволие, у Антипова — волевой характер. У Живаго — сомнения, у Антипова — правота несгибаемая. Антиповым владеют глобальные идеи добра космических масштабов, и они выливаются во зло в огромных масштабах. У Живаго — мелкое частное добро, мелкие дела. Деятельность Антипова приводила к разрушениям, а все, что делал Живаго, было направлено на созидание, но созидательная деятельность не всегда была возможна, а, если и была возможна, то была сопряжена с тем самым участием в военных действиях, чего Живаго совершенно не хотел.
Из-за этого своего безволия Живаго оказался в плену у партизан, вынес нечеловеческие условия и предпринимал безнадежные попытки сохранить себя, сохранить невмешательство в эту войну.
Происходит сражение между партизанским отрядом и отрядом белых: «Доктор лежал без оружия в траве и наблюдал за ходом боя», осознав, что «пребывать в бездействии среди кипевшей кругом борьбы не на жизнь, а на смерть было немыслимо», взял у убитого винтовку и «выбирая минуты, когда между ним и его мишенью не становился никто из нападающих» стал стрелять по дереву.
Случайно один из мальчиков-юнкеров возникает между стрелявшим и этим деревом и падает.
«Юрий Андреевич перешел на поляну к телу убитого им молодого белогвардейца. На красивом лице юноши были написаны черты невинности и все простившего страдания. “Зачем я убил его?” — подумал доктор.
Он расстегнул шинель убитого и широко раскинул ее полы. На подкладке по каллиграфической прописи, старательно и любящею рукою, наверное, материнскою, было вышито: Сережа Ранцевич — имя и фамилия убитого.
Сквозь пройму Сережиной рубашки … свесились на цепочке наружу крестик, медальон и еще какой-то плоский золотой футлярчик … с поврежденной, как бы гвоздем вдавленной крышкой. Футлярчик был полураскрыт. Из него вывалилась сложенная бумажка. Доктор развернул ее и глазам своим не поверил. Это был тот же девяностый псалом, но в печатном виде и во всей своей славянской подлинности.
В это время Сережа застонал и потянулся. Он был жив … Пуля на излете ударилась в стенку материнского амулета, и это спасло его».
Это чудо показывает, что человеческих усилий в этих условиях недостаточно, невозможно держать нейтралитет, все равно человек оказывается вовлечен в военные действия и втянут в череду преступлений.
Весь этот отрывок сквозит болью о том, что происходит — один и тот же 90-й псалом, одна и та же вера, одни и те же люди, которые воюют друг против друга, красные и белые соревнуются в жестокости друг с другом, зверства как будто перемножаются. И только милостью Божией возможно чудо спасения от этого ужаса.
Очень важная тема в «Докторе Живаго» — это трагический конец, исход, когда талантливый доктор, гениальный поэт возвращается пешком в Москву и постепенно теряет свои врачебные навыки, опускается, теряет остроту понимания. Что это? Почему?
Это очень автобиографично, Пастернак знал за собой способность впадать в отчаяние, заболевать каждый раз, сталкиваясь с человеческим горем.
Странные и обидные слова, говорят Живаго его старые друзья, пережившие лагерь и ссылку, поучают доктора, чтобы он взял себя в руки, пошел на службу в больницу.
Далее — мысли Живаго о них:
«Дорогие друзья, о как безнадежно ординарны вы и круг, который вы представляете, и блеск, и искусство ваших любимых имен и авторитетов. Единственно живое и яркое в вас — это то, что вы жили в одно время со мной и меня знали».
Почему? Есть такое ощущение, что он единственный из всех персонажей романа не приспособился, не подстроился, сохранил внутреннюю свободу, которая его отличала всегда.
Кроме того, все время, пока Живаго мотало с одной войны на другую, он брал на себя чужие страдания. Об этом есть упоминания как в самом романе, так и в свидетельствах Пастернака о самом себе:
«Часто жизнь рядом со мной бывала революционирующе, возмущающее мрачна и несправедлива, это делало меня чем-то вроде мстителя за нее или защитника ее чести, воинствующе усердным и проницательным, и приносило мне имя и делало счастливым, хотя, в сущности говоря, я только страдал за них, только расплачивался за них».
Тут мы переходим к пониманию Пастернаком истории, причем это понимание двойственное.
Ему кажется, что история подобна растительному царству — нельзя заметить, как растет трава, точно так же нельзя заметить, как творится история:
«Толстой не довел своей мысли до конца, когда отрицал роль зачинателей за Наполеоном, правителями, полководцами. Он думал именно то же самое, но не договорил этого со всею ясностью. Истории никто не делает, ее не видно, как нельзя увидать, как трава растет».
Тем самым снимается ответственность с рядового маленького человека, казалось бы.
Другое восприятие истории высказывает Николай Николаевич Веденяпин, в уста которого влагаются очень многие мысли Пастернака:
«Человек живет не в природе, а в истории, история эта начата Христом, и это, благодаря Христу кончился Рим с его свинством и кончились народы и вожди, и начался человек, простой человек, пахарь, плотник. И дальше он творит новую историю, вторую вселенную в ответ на явление смерти с помощью явлений времени и памяти».
И дальше похожая мысль о Юрии Андреевиче. Когда они хоронили Анну Ивановну Громеко, маму его первой жены:
«В ответ на опустошения, произведенные смертью, в этом медленно шагавшем сзади обществе, ему (Живаго) хотелось мечтать и думать, трудиться над формами, производить красоту. Сейчас, как никогда, ему было ясно, что искусство всегда, не переставая, занято двумя вещами, оно неотступно размышляет о смерти и неотступно творит этим жизнь. Большое истинное искусство то, которое называется откровением Иоанна, и то, которое его дописывает».
Наиболее сильные, вершинные стихи — евангельский цикл, написанный Пастернаком, — полностью отдан Юрию Живаго. Он пишет большую часть стихов накануне расставания с Ларой, накануне предательства, которое совершает из лучших побуждений, и за которое потом они оба расплачивается.
Говорится о том, что это писал не поэт, но это творчество, вдохновленное свыше. Сотворчество. Человек и Творец. Художник, поэт, или музыкант — орудие в руках Божиих. Именно так возводится здание второй Вселенной, о которой говорил Николай Веденяпин.
Нельзя сказать, что эта вторая Вселенная совсем где-то отдельно, она здесь, рядом, в этой нашей истории, в наших ужасах происходит преображение этой истории во что-то Высшее, во что-то не тронутое распадом:
И образ мира, в Слове явленный,
И творчество, и чудотворство.
В эпилоге состарившиеся друзья Живаго Дудорев и Гордон перечитывают его тетрадь:
«…казалось, что эта свобода души пришла, что именно в этот вечер будущее расположилось ощутимо, внизу, на улицах, что сами они вступили в это будущее и отныне в нем находятся. Счастливое, умиленное спокойствие за этот святой город, и за всю землю, за доживших до этого вечера участников этой истории, их детей, проникало в них и охватывало их неслышной музыкой счастья, разлившейся далеко кругом. И книжка в их руках как бы знала все это и давала их чувствам поддержку и подтверждение».
Что же получается? С одной стороны, неудавшаяся попытка быть святым. Живаго предал возлюбленную, ее увез соблазнитель — змей Комаровский, она была вынуждена отказаться от собственного ребенка, и сам Юрий едва ли не потерял себя.
При прощании с Ларой у Живаго в горле стоит ком, словно он подавился яблоком, и перекликается это со стихотворением 30-х годов:
Будущее! Облака встрепанный бок!
Шапка седая! Гроза молодая!
Райское яблоко года, когда я
Буду, как Бог.
Я уже пережил это. Я предал.
Я это знаю. Я это изведал.
То же самое «яблоко» — Пастернак приносит страдания первой семье, не может уберечь от самоубийства Марину, не может уберечь от тюрьмы Ольгу Всеволодовну.
Но «Вселенной небывалость и жизни новизна», «нездешний ветер», «лазурь преображенская», это и есть то самое творчество, которое от нас ожидает Христос.
Мело, мело по всей земле
Во все пределы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.
На озаренный потолок
Ложились тени,
Скрещенья рук, скрещенья ног,
Судьбы скрещенья…
Если исторические события сравниваются с природными явлениями, то, безусловно, «мело» не только весь месяц, а «мело» много лет.
Что может человек противопоставить вот этой страшной и лютой «метели»? Маленькую свечку. Свечку веры, свечку личной маленькой любви.
Тихий, домашний, очень хрупкий мир, в котором поселился всемогущий Бог, зависимость от людей, от их любви, эта хрупкость тоже напоминает «трепет затепленных свечек», которому противостоит «ветер злой свирепый и степи».
Этот тихий голос перекрывает все остальное, оказывается весомее, чем человеческие ужасы, что мы творим в «отпадении». Оказывается, что это было искуплено и это можно преодолеть:
Что только-только распогодь,
Смерть можно будет побороть
Усильем Воскресенья.
Из стихотворения «Рассвет», тоже отданного доктору Живаго:
Ты значил все в моей судьбе.
Потом пришла война, разруха,
И долго-долго о Тебе
Ни слуху не было, ни духу.
И через много-много лет
Твой голос вновь меня встревожил.
Всю ночь читал я Твой Завет
И как от обморока ожил…
Это о том, как через свое духовное возрождение, через творчество способствовать тому, чтобы люди поворачивались лицом к Богу.
Пастернак, конечно, надеялся, но шансов было мало, что напечатают в России этот роман, никаким образом не советский, и нельзя сказать, что антисоветский: они равны, эти красные и белые, они друг друга стоят.
Роман взорвал бы своей последней правдой пришедшую «оттепель», ей пришлось бы стать весной. А весны-то не предполагалось. Одной рукой развенчивался культ личности, а другой рукой подавлялась вера.
Эта половинчатость была глубоко противоречива. В сталинское время все было честно — беспросветный мрак и ад, а «оттепель» — вот такая полуправда.
Нобелевская премия
В журнале «Новый мир» были напечатаны выдержки из романа, маленькие кусочки.
В 1956 году Борис Леонидович передал рукопись представителям итальянского издателя в Москве.
В ноябре 1957 года роман выходит в Италии.
23 октября 1958 года Пастернаку присуждается Нобелевская премия «за выдающиеся заслуги в современной лирической поэзии и в области великой русской прозы».
Две телеграммы
23 октября 1958 года Пастернак отправляет в Шведскую академию телеграмму: «Бесконечно признателен, тронут, горд, удивлен, смущен».
Дальше, по словам Корнея Чуковского, начинается «прогон сквозь строй». На 25 октября назначено заседание партийной части Союза писателей, еще через два дня — общий съезд Союза писателей.
В партийную верхушку Союза писателей Пастернак отправил письмо:
«Я знаю, что под давлением общественности будет поставлен вопрос о моем исключении из Союза писателей. Я не ожидаю от вас справедливости. Вы можете меня расстрелять, выслать, сделать все что угодно. Я вас заранее прощаю. Но не торопитесь. Это не прибавит вам ни счастья, ни славы. И помните, все равно через несколько лет вам придется меня реабилитировать».
Единогласно принято решение исключить Пастернака из Союза писателей и выслать его из страны.
Пастернак пишет письмо на имя Хрущева с просьбой не применять к нему такую крайнюю меру, для него это равносильно смерти.
29 октября 1958 года в Швецию отправилась вторая телеграмма: «В силу того значения, которое получила присужденная мне награда в обществе, которому я принадлежу, я должен от нее отказаться. Не примите за оскорбление мой добровольный отказ».
Я пропал, как зверь в загоне.
Где-то люди, воля, свет,
А за мною шум погони,
Мне наружу ходу нет…
Что же сделал я за пакость,
Я убийца и злодей?
Я весь мир заставил плакать
Над красой земли моей.
Но и так, почти у гроба,
Верю я, придет пора —
Силу подлости и злобы
Одолеет дух добра.
«И свет во тьме светит, и тьма не объяла его» (Ин 1:5)
30 мая 1960 года Борис Леонидович Пастернак умер. Перед смертью он тайным образом исповедался, ночью его отпевали.
Прощай, лазурь преображенская
И золото второго Спаса
Смягчи последней лаской женскою
Мне горечь рокового часа…
Прощай, размах крыла расправленный,
Полета вольное упорство,
И образ мира, в Слове явленный,
И творчество, и чудотворство.
И еще — отрывок из стихотворения Николоза Бараташвили в переводе Пастернака:
Цвет небесный, синий цвет,
Полюбил я с малых лет.
В детстве он мне означал
Синеву иных начал…
В этот голубой раствор
Погружен земной простор.
Это легкий переход
В неизвестность от забот
И от плачущих родных
На похоронах моих.
Это синий негустой
Иней над моей плитой.
Это сизый зимний дым
Мглы над именем моим.
«И свет во тьме светит, и тьма не объяла его» (Ин 1:5). В одно и то же время с тьмой жил тот, кто принадлежал свету.
Текст по лекции «Лазурь преображенская. Христианство в жизни и творчестве Бориса Пастернака»подготовила Татьяна Стрекопытова