
22 сентября исполняется 130 лет со дня рождения Алексея Лосева — великого философа, огромного явления в интеллектуальном пейзаже XX века: не дерзаем даже на его общую обрисовку — нам не хватает окоема; как дань памяти, как возможные точки входа в наследие Лосева — но и не более того! — мы тут лишь упомянем пять сравнительно небольших текстов, каждый из которых представляет нетривиальную концепцию (и заодно иллюстрирует — каждый свой — жанр, дисциплину, в которых работал Лосев), притом так, что все пять вырисовывают некий единый понятийный узор — один из множества, что можно найти в лосевском наследии, но этот конкретно полезен будет, быть может, в развенчании обывательского образа чествуемого нами сегодня мыслителя («православный неоплатоник» etc.).
Деконструкция фаллогоцентризма западной метафизики
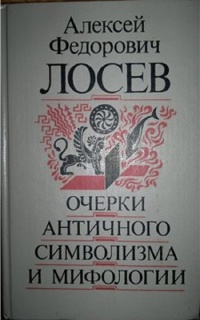
За десятилетия до Деррида, Лакана и т. п. постмодерных мыслителей православный мыслитель Алексей Лосев обнаруживает в самом истоке западной метафизики — в основании платонизма, платоновского учениях об идеях — фаллогоцентризм (здесь и далее мы употребляем слово «метафизика» в хайдеггериански-постмодерном смысле как наименования основоустройства той теоретической традиции, что описывается крайними точками досократики → неокантианцы; на всякий случай упомянем, что сам Лосев употреблял слово «метафизика» в гегелианском смысле «не-диалектики»). В очерке «Учение Платона об идеях в его систематическом развитии» — помимо прочего, образце работы Лосева как историка идей, историка философии, исследователя античной культуры, находим, например, такое:
«Только один фаллос, фаллос как таковой /…/ есть, по моему ощущению, основная интуиция платонизма, его первичный пра-миф. /…/ именно фаллос, напряженный мужской член со всей резкостью своих очертаний. Кроме того, поскольку основным ядром в платоновской идее является именно эйдос, то речь может идти только о мужском поле. /…/ фаллос, данный как /…/ безличностная личность, которая только и возможна для грека и Платона. /…/ похоть /…/ вот пра-миф платоновского учения об идеях. Пра-мифом платоновского учения об идеях является мужчина /…/ для Платона весь мир, космос есть не что иное, как огромный фаллос. /…/ Платонизм есть мистицизм. /…/ совершенно особый мистицизм. /…/ Ее /платоновской идеи/ экстаз — в чувственно-мифическом смысле — не может быть тихим и умным радованием и вселюбовно-личностным умилением и молитвой. Ее экстаз — дикий разгул дионисийски возбужденной толпы, переполненный кровью, вином, половым семенем. Если находить всерьез нужным разыскивание платоновского мифа, то этот миф есть оргии и кроваво-безумные пляски. /…/ вся эта /платоновская/ диалектика и риторика имеет единственную цель — /…/ узаконить кровавое и жестокое радение как норму жизни, человеческой и космической. Не старый ли это знакомый? Не дух ли соблазна, прельщения /…/ Позвольте, да это сам дьявол, бес. Дьявол и есть. Не верите? Но тогда взгляните /…/ в эту /платоновскую/ знаменитую колесницу души, запряженную двумя конями и управляемую возничим. /…/ Можно прямо сказать, что это не два коня, а бес, насилующий душу, причем оба хороши: один вполне похож на мужской фаллос, а другая — на женские genitalia. Впрочем, то и другое ведет к созерцанию идей и есть мистика. Платоник чувствует и созерцает идеи своим фаллосом».
Идея = фаллос: формула фаллогоцентризма. Платонизм = фаллологоцентризм = патриархат = похоть = насилие = бесовщина: ряд тождеств, во всем противоположный православному христианству («тихому и умному радованию и вселюбовно-личностныму умилению и молитве»). Неплохо — в особенности для «христианского платоника»!
Паламитская теология как продукт деконструкции платонической метафизики

Как совместить этот радикальный антиплатонизм с репутацией Лосева не только как исследователя платонизма, но собственно как неоплатоника? Ответ получаем в очерке «Социальная природа платонизма», образце теологической работы Лосева. Здесь мы узнаем, что есть платонизм в узком смысле — метафизика Платона и его последователей; и платонизм в широком смысле — как именование вообще любой диалектики смысла и явления, сущности и энергии etc., то есть всякой зрелой философии. Так Лосев выводит спектр разных «платонизмов» (в зависимости от модели диалектики), на крайних позиция которого (в роли ультра- и инфра-) обретаются собственно платонизм, а на другой противоположной позиции, то есть как антиплатонизм Лосев находит паламизм: оппозиция платонической метафизики и паламитской теологии: паламизм как постметафизика! — верней и правильней будет считать Лосева неопаламитом, а не «неоплатоником». Лосев, скажем, напоминает, что Православная Церковь просто-напросто анафематствовала — и не один раз! — платонизм, притом это теологическое отбрасывание платонизма достигло своего пика именно что в утверждении паламитской догматики; платоническая метафизика есть теоретическая экспликация язычества; паламитская теология есть теоретическая экспликация христианства:
«Платонизму трижды анафема /…/ Платон и платонизм были неоднократно предметом суждения на Соборах и /…/ по крайней мере, на трех Соборах, одном Вселенском и двух Поместных, Платон и платонизм были преданы анафеме. /…/ Церковью анафематствован именно платонизм, в частности же диалектика и учение об идеях. /…/ Третье движение /имеется ввиду паламитские Соборы — «третьи» после описанных до этого Лосевым V Вселенского Собора и Соборов против Иоанна Итала/ в истории византийского православия настолько значительно и его борьба с «платоническими идеями и эллинскими мифами» настолько интересна, что я кроме Соборных постановлений считаю необходимым сказать несколько слов и от себя. Дело в том, что тут мы находим не только анафему на платоников, но и полновесный ответ на платонизм, т. е. находим самостоятельный, свой, так сказать, платонизм. Преследуя цели наиболее выразительной и специфической характеристики эллинского платонизма, я не могу пройти мимо соблазна сопоставить эти два до последней глубины противоположных друг другу культурных типа, — эллинское язычество и византийское православие. Примириться им невозможно без самоубийства; и приходится им убивать друг друга, друг друга анафематствовать. Что такое платонизм? /…/ платонизм есть систематически разработанная интуиция тела. /Поэтому/ в платонизме /…/ Божество в глубочайшей своей основе не может быть личностью; оно — число, т. е. оно, прежде всего, Единое, а, след., божеств и много, поскольку чисел тоже много, даже бесчисленное количество. /В противоположность платонизму/ мистическое православие /то есть паламизм, исихазм/ — личностно. /…/ Варлаам и Акиндин были именно еретики. Поэтому они хотели объединить православие и платонизм. /…/ языческий платонизм мы характеризовали как принципиальное синтезирование идеи и вещи /…/ противопоставляя ему христианство как /…/ теорию духовно-личностной индивидуальности; платонизм, говорили мы, телесен, христианство — личностно. /…/ Между языческим платонизмом и христианством вообще — разница та, что первый не имеет опыта чисто личностного бытия, чистой идеи, или духа, второе же вырастает целиком из полной несводимости первичного духовно-личностного бытия».
Притом тут надо ухватить вот это, главное: полную экспликацию, развернутое теоретическое оформление христианства — то есть полную противоположность платонизма — Лосев находит в паламизме, в восточнохристианской теологии, а все прочие формации мышления располагает между двумя этими полюсами: схоластика, протестантизм, картезианство, эмпиризм, рационализм, кантианство, идеализм, материализм etc. — суть ступени реакции, ступени отпадения от радикальной постметафизики «паламизма» (вообще от радикального разрыва с платонизмом: коль скоро паламизм есть наиболее полная концептуальная развертка такого разрыва, то этот последний в любой форме потенциально есть паламизм — не в смысле знакомства с поздневизантийкой мыслью, а в смысле целей и задач, устройства дискурса и пр.) обратно в глубины классической метафизики платонизма, то есть, как мы уже видели, — метафизики фаллизма, насилия, демонизма.
Сделаем шаг в сторону для прояснения: скажут, что такие большие, центральные вещи Лосева как «Философия имени» или «Самое само» (каковые суть и паламитско-теологические трактаты) — яркие образцы типичнейшего метафизического дискурса Сущности, последовательного закономерного («по законам диалектики» и т.п.) развертывания моносубстанции в полноту всеединства (то есть, де факто редукции всего многообразия бытия к первосущности — основный метафизический жест) и т.п. — что тут нет не только никакой деконструкции классической эссенциалистской метафизики, но даны просто-напросто ее эталоны: самый беззастенчивый платонизм! — и мы согласимся: да, так, именно так — но без всякого противоречия вот что тут нужно ухватить: Лосев доводит до совершенства, полноты, последнего накала классическую платоническую метафизику — и на пике — преодолевает ее, «снимает» в чем-то совершенно уже другом. «Философия имени» в своем «радикальном ядре» (Гоготишвили) оказывается философией не моносубстанции, а полифонии, не логикой первосущности, а диалогикой моноплюральности, где каждая вещь есть высказывание себя другим, словом в диалоге бытия (бытие как оклики и отклики) — высказывающей себя другим, но притом неизреченной, неисчерпаемой в слове-смысле сущности (выражаемой в-, но не редуцируемой к- этой своей коммуникативной энергии). Или «Само само» в итоге оказывается не эссенциализмом, а «темной онтологией», где каждая вещь — абсолютно неисчерпаема, непознаваема, темна — и тем бесконечно переливчата в своем становлении, выражении во вне — опять же бесконечности энергий бездонно темной сущности — каждой и любой вещи (паламизм здесь становится диспозитивом, способом мыслить вещи вообще). Лосев — вершина, цветение классической философии — кою он не извне отбрасывает — что ничего бы не стоило и ничего бы не значило — а изнутри, органическим ростом (как бы эволюционным прыжком, сдвигом в самих основах) преодолевает.
Марксистская философия как инструмент обоснования неопаламитской теологии
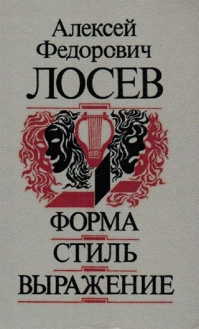
«Персонализм» как руководящая интуиция, высшая ценность и теоретическое ядро
неопатристической теологии — общее место для этой последней (Сахаров, Флоровский, Лосский, Мейендорф, Зизилуас, Хоружий), и вот мы обнаруживаем это уже у Лосева, до оформления неопатристики, но вот что тут интересней всего: оппозиция вещь/личность, управляющая и историко-философским и теологическим дискурсами Лосева, обосновывается в конечном счете марксистской философией.
Часто можно услышать, что лосевский марксизм — вынужденный, лицемерный, мол, философ по условиям советской интеллектуальной жизни был принужден обращаться к марксистской терминологии etc.: но помимо того, что это оскорбительное в отношении личности философа предположение (лицемер, мошенник), надо иметь в виду, что оно не учитывает того простого факта, что если удалить «марксистские вставки» в текстах зрелого Лосева (от 30-х гг. и до конца), то от них ничего не останется, поскольку тексты эти из таких «вставок» почти целиком и состоят. Нет, «марксизм» (закавычиваем, ибо тут, конечно, не «ортодоксальный», не «догматический» марксизм) Лосева не выбросишь из его философии — хотя бы потому, что некоторое особое развитие марксистского дискурса — вообще одно из главных достижений Лосева как философа. Поэтому мы как образец именно философской работы Лосева приводим его очерк, посвященный марксизму, — «История эстетических учений»: текст, между прочим, не опубликованный при жизни автора и явно к публикации не предназначенный: в СССР такое, конечно, не пропустили бы, и поэтому тут, как видим, не «лицемерие», не «дань официозу» и т. п., а сознательная работа православного мыслителя с проблематикой и методологией марксизма; текст 30-гг., где мы видим как Лосев, закладывает основы своих поздних исследований («История античной эстетики» и др.).
Лосев проясняет в марксизме одну принципиально важную вещь: связь между социально-экономическим базисом и культурно-идеологической надстройкой — не прямая, не непосредственно-каузальная, а диалектическая, структурная. Не так, что скульптор или математик осознает, что «вот такой-то способ производства характеризует мой социум, и поэтому в своих скульптурных, математических произведения я провожу идеологию, оправдывающую этот способ производства», — это, конечно, не марксизм, а карикатура не него, «вульгарный социологизм», как окрестил его великий советский марксист Лившиц, тоже, кстати, специалист, как и Лосев, по эстетике (они были лично знакомы и ценили труды друг друга при всем различии мировоззрений). Итак, связь между базисом и надстройкой не непосредственная, а по модели, по принципу: в способе производства производится сами диспозитивы, габитусы, логики понимания и действий людей: тут производится собственно сама формация субъекта, то, «как» он себя (в том числе дискурсивно) ведет, его поведенческие паттерны, его стиль, манера, способ быть. И вот — без, конечно, не то что ангажированности какой-то, но просто даже без всякой мысли о производительных силах, производственных отношениях, классовых интересах etc. — скульптор, математик и др. работники надстройки делают свое дело — бессознательно — согласно моделям, принципам, диспозитивам, габитусам, паттернам своего способа производства.
Способ производства — не причина, а матрица культурно-идеологических форм. Платон — не «оправдывает», не «обосновывает» рабовладение; но его способ мыслить, устройство его дискурса — произведены в рабовладельческом способе производства (и специфически — в переломе от раннего, полисного к развитому, имперскому рабовладению).
Связь между надстройкой и разными сферами базиса — не «непосредственно-логическая», а «символическая»: скульптура — не следствие, а символ рабства; если бы надстройка была бы просто ансамблем следствий базиса, если бы разные сферы и уровни надстройки сводились бы к базису «без остатка», то само деление на базис и надстройку было бы бессмысленным; искусство — не экономика, религия — не экономика, но человек творящий, человек поклоняющийся — это человек, имеющий такой-то социальный опыт, сформированный такой-то социальной реальностью, в ней — в конкретных социально-экономических условиях — действующий etc. etc. Марксизм, таким образом (Лосев тут говорит о теории Маркса, противопоставленной «марксистам»), требует учета несводимой специфичности каждой области и уровня надстройки, что дает важнейший для марксистской теории принцип «неравномерности развития» (концепт Маркса, развитый тем же Лившицем похожим на лосевский способом): против вульгарно-социологизаторского спрямления процессов в культурно-идеологической надстройке к процессам в социально-экономическом базисе (в культуре, мол, будут та же интенсивность, то же направление, тот же ритм развития, что и в экономике) Лосев выставляет специфичность отклика («символа») каждой сферы и уровня надстройки на процессы в базисе, так что каждая сфера и уровень надстройки развивается не только не равномерно, но часто (для вульгарного социологизатора) парадоксально, например, в обратном направлении процессу в базисе, в контрапункт, а не в унисон ему, с опозданием или опережением, с резкой интенсивностью в одной сфере надстройки и затуханием в другой etc.:
«Бытие определяет сознание не логически, но, опять скажу, выразительно, символически, духовно-морфологически, стилевым образом. Рабство содержится в искусстве не экономически, но художественно; и в астрономии оно содержится не экономически, но астрономически. Также и в религии оно дано как тип чисто религиозной же жизни, а в философии оно дано тоже не экономически, но как специфически-философская проблематика».
Лосев не только марксист, он — философ, продвигающий теорию Маркса вперед, развивающий марксизм; вот что было бы неплохо ухватить в наследии Лосева. И вот к чему мы подводили: рабовладельческий способ производства — производства продуктов, символов, отношений, субъектов — есть способ непосредственно-вещный. Овещнение, отчуждение правит рабовладельческими обществами самым непосредственным, прямым образом: раб есть человек-вещь, человек-тело, человек-объект, человек-инструмент, человек-товар, человек-собственность; платонизм есть «идеология», философия, сформированная вот таким способом производства, где приняты вот такие отношения с людьми. В рабовладении — то есть в Античности, в эпоху Платона, Аристотеля, классической метафизики — овещнение человека явно и недвусмысленно: человек как собственность. В иных формациях это не так явно — мы опять у Лосева натыкаемся на спектр, где на одной стороне — платонизм, явное и недвусмысленное рабство, а на другой — его полная противоположность: паламизм, мистическое православие, где человек не овещняется, где он не вещь-объект-тело-инструмент-собственность-товар, но личность-дух-свобода. Таково политэкономическое содержание оппозиции вещь/личность, языческая (платоническая) интуиция тела / христианская (паламитская) интуиции личности.
Деконструкция эстетики власти

Очерк «Социально-историческая сторона римской эстетики» (входит в книгу «Эллинистически-римская эстетика») смыкает в себе все упомянутые темы, проблемы и методы и послужит нам образцом того жанра/дисциплины, к которой относятся поздние работы Лосева: «эстетики» в специфически лосевском смысле, не философия искусства/красоты, не только и не столько история воззрений на искусство и красоту, но что-то вроде культурологии в целом, теория культуры, идеологии, где «эстетика» понимает как принцип выражения — выражения как раз тех моделей, принципов, стилей, паттернов, диспозитивов, габитусов, способов производить, о которых было сказано выше. «Эстетика» по Лосеву объемлет не только искусства, ремесла, но и философию, вообще — дискурсы, идеологию, религиозные ритуалы, массовые зрелища, политическое устройство etc. etc.: всю сферу «выражения» («символики», «морфологии», «стиля» — см. цитату выше) того способа, каким производит себя такой-то социум в такую-то эпоху.
В частности, в указанном очерке Лосев блистательно именно что «показывает» эстетику гладиаторских боев, травли зверей — центральную для Римской империи: кровь, алчба и наслаждение пролитием крови, растерзанием и убиением живых тел: вот где Рим выражал себе полнее всего. Тут-то и марксистская методология Лосева: не так, что римский цирк был чем-то вроде политтехнологии, специально созданной идеологией: нет; тут огромная рабовладельческая империя, крупно-рабовладельческий способ производства вот так производил не только продукт — но и символы, но и отношения, но и субъектов — так что это «само собой» выражалось в кровавой оргии смертельных схваток людей и зверей.
И далее: одна из гениальнейших, ценнейших находок Лосева: инфернальный разврат и зверство (садизм в строгом смысле этого термина) римских императоров — не случайность, а закономерность, не баг, а фича: это тоже эстетика, эстетика власти, эстетика Римской империи, то как ведут себя представители власти (политическое «представительство» = «эстетика» власти) — не личный произвол, а выражение/представление/символ некоторого принципа, согласно которому производит себя данный социум — притом, заметьте, такая казалось бы возвышенная, «духовная» неоплатоническая философия есть ни что иное как выражение/представление/символ всего этого в области философии:
«Рим /требует…/ мяса и крови гладиаторов и зверей, этой сладострастной одури /…/. Но все это бунтующее и неугомонное исступление социальной и личной плоти пронизано тончайшими и невидимыми, однако острейшими и всесильными токами юридического абсолютизма и обожествленной императорской власти. Цезаризм — это пронизание горячего социального мяса и крови холодными иглами и стальными, хотя и невидимыми, узами юридической теократии. /…/
Когда духовная и гражданская верховная власть объединяются в одном лице, то всегда есть соблазн превращать полицейские распоряжения в догматы и заставлять повиноваться догматам как полицейским распоряжениям. Но ничего не поделаешь, именно таков–то Рим и был. Рим — это как раз и есть неразличение религиозного догмата и полицейского распоряжения. В этом и заключается его «красота». /…/
Одной из самых ярких форм проявления римского чувства жизни и красоты является произвол, деспотизм и преступный аморализм большинства римских императоров. Такого рода поведение большинства римских императоров возможно было только в эпоху абсолютной веры в божественную сущность императорской власти. /…/
Отбросим плоскую моралистику и не будем ханжить на тему о кровавых жестокостях, насилиях и пр., чинившихся в императорском Риме. Гораздо интереснее исторический и эстетический стиль этих жестокостей и пороков. /…/
Наслаждение от чужого страдания, кровавое сладострастие и садизм мучителя-убийцы, педераста и кровосмесителя — это в конце концов только вид эстетики, хотя при изображении такой эстетики обычно даже самые отъявленные нигилисты превращаются в ханжей и моралистов.
С точки зрения философии истории в этом римском садизме нет ровно ничего особенного по сравнению с такими построениями, как весь античный космос, как весь языческий пантеизм, как все древнее рабство. Если бы ханжество, индивидуальное или социологическое, не мешало людям мыслить, то они поняли бы, что уже Платон, уже пифагорейство, уже Гомер есть онтологический садизм и противоестественный разврат, что там, где нет опыта личности, всегда абсолютизируются внеличные и безличные стороны бытия, что сама скульптура вызвана в античности к жизни этим мистическим развратом обожествленной плоти, что не только солдатчина Каракаллы и Максимина, но и кроваво-сладострастный угар Калигулы, Коммода и Гелиогабала есть только римский синкретический вид общеантичной скульптурной эстетики».
Деконструкция музыкального/модерного/буржуазного субъекта
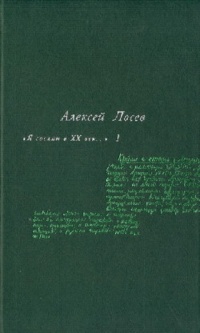
Интересующий нас понятийный узор — напомним, только лишь один из многих, которые можно найти в огромном наследии Лосева — в принципе завершен, но вот еще завиток: Лосев был и философом музыки, но музыку — новоевропейскую, композиторскую музыку — жесточайше критиковал (эта линия размышлений найдет свой расцвет позднее в аскетической антропологии Владимира Мартынова, как противопоставление паламизма платонизму — в синергийной антропологии Сергея Хоружего). Эта критика разворачивалась в рамках все той же теологической, паламитской критики метафизики, но в данном случае в ее новоевропейской, буржуазной — музыкальной, а не скульптурной — формации. На этот счет вспомним повесть «Трио Чайковского», которая послужит нам также образчиком художественной прозы Лосева: Лосев был великолепным мастером слова и в своих теоретических трудах, где блестяще пользовался разными дискурсами, стилями (возвышенно-мистический, строго историко-философский, диалектически-иронический — когда узор мысли прослеживается до своих пределов, не оглядываясь на «здравый смысл», высмеивающе-юмористический, юродствующий, художественно-вживающийся в предмет изображения и др. — с мастерской сменой этих стилей, когда сдержанной историко-философский анализ перерастает в «диалектическую гирлянду», заканчивающуюся где — мистической теологий, где — юродствованием, где насмешливой игрой с читателем-простаком etc.), но ему принадлежат и ряд непосредственно художественных текстов — повестей, рассказов, роман.
Сюжет «Трио Чайковского»: музыкантка добивается эротической благосклонности философа; он отказывает; потом уже на его желание эротической благосклонности музыкантка отвечает отказом; повесть кончается началом Первой мировой: эротизм, война, музыка. Предельно вкратце выразим сюжет этого юродско-парадоксального текста следующим образом. Дохристианская эпоха: личности нет, есть тотальность Космоса; рабовладение, язычество, овещненность человека. Есть рабы-вещи и их господа: социум устроен как иерархия подчинения. Этим отношением промысливается все: мироздание есть замкнутая иерархия подчинения. Христианство провозглашает идею Неотмирной Абсолютной Личности; освобождение от Космоса, торжество принципа личности. Феодализм есть все тот же сущностно вещный (языческий) и лишь формально личностный мир (христианский) мир: лично свободные крестьяне, прикрепленные к земле и т. п. Капитализм есть парадоксальный, диалектический возврат к принципу вещи, но с реальным (не феодально-формальным) учетом христианства: переход объективной истины христианства в субъективность; вместо Абсолютной Личности — абсолютизация эмпирической личности; истина более не объективна как в христианстве, теперь — атеизм, материализм, субъективизм, антропоцентризм; как объективного бытия истины и ценности нет, они пребывают в субъективной глубине человека. Христианство — тезис, капитализм — его диалектический антитезис, то есть момент в историческом разворачивании христианства.
Буржуазный субъект абсолютизирует себя, самообожествляется, переносит христианский опыт Абсолютной Личности на себе, тем как бы изнутри себя переживает Божество, и это переживание и есть музыка. Музыка возможна только при капитализме (Бах, Бетховен, Моцарт и пр.). Капитализм — переход идеи Абсолютной Личности к идее абсолютизации человеческой личности; музыка — это переживание Божества внутри человеческого субъекта. Музыка есть реалистическое изображение Божества, параллельное реалистическим изображениям человека и мира в живописи, литературе: тезис нетривиальный! — нетривиальный способ центральной операции для постмодерной, постметафизической, деконструктивистской мысли — критики модерного (картезианского etc.) субъекта. Музыка, таким образом, — великая музыка Баха, Бетховена, Моцарта и т. д. — есть одно из ярчайших проявлений отрыва новоевропейского человечества от Бога; отрыв этот ведет к катастрофе; последняя сцена диалога — начало Первой мировой:
«весь дом озарился ярким огнем взорвавшихся бомб /…/
Крови много /…/
Пламя /…/ как будто облекло меня с разных сторон и сверху, и снизу, и с боков, и я как бы потонул /…/ в этом пламени, один, один во всем мире, который тоже весь целиком был им захвачен»,
— заканчивает в 1932 году свою повесть о музыке з/к Алексей Лосев, строитель Беломорканала, рожденный за 18 лет до начала Первой мировой, за 24 года до начала Великой Русской Революции, арестованный и отправленный на строительство Канала 37-летним, встретивший начало Второй мировой 46-летним, не доживший до развала СССР трех лет: в таком «контексте» Лосев — «пловец в безмерной стремнине» политических кошмаров XX века — создал свою неопаламитскую теологию, свою диалектическую феноменологию, свой извод марксизма, свою деконструкцию фаллогоцентризма, платонизма, эстетики власти, модерной субъектности. Достижения его поразительны; наследие его только начинает являть свой вес, свое значение, свою радикальную новизну: теряющаяся за горизонтом новь, ждущая себе пахарей.




