
Наверное, каждый из нас что-нибудь да слышал о «Декларации митрополита Сергия». А если не слышал о ней, то слышал о горячих спорах вокруг нее. А если не о спорах, то об их далеких отголосках.
Сегодня, спустя 95 лет после подписания «Декларации», про нее сказаны тысячи слов, в разных уголках русского православия бытуют разные (порой диаметральные) оценки ее значения, а живой интерес к этой проблематике почти остыл. И это хороший повод воспользоваться как интеллектуальными наработками прежних поколений, так и нынешним эмоциональным затишьем — чтобы попробовать спокойно разобраться в проблеме. Что же свершилось 29 июля 1927 года — рождение «ереси сергианства» или очередная веха мудрой политики спасения Церкви, начатой еще патриархом Тихоном?
«Пусть погибнет имя мое в истории, лишь бы Церкви была польза», — говорил святой патриарх Тихон, вставший в последние годы жизни на путь поиска компромиссов с безбожной властью. Сергиевская «Декларация» 1927 года заканчивается теми же словами, вербализацией намерения «совершить возложенное на нас дело к пользе Святой нашей Православной Церкви». Но одинаково ли понимали пользу Церкви два патриарха — Тихон и Сергий?
Маленькая деталь
Расхожее выражение «дьявол в деталях» иногда приобретает буквальный смысл. Вступая в 1923 году на путь компромисса, патриарх Тихон публично заявлял:
Будучи воспитан в монархическом обществе…, я действительно был настроен к Советской власти враждебно, причем враждебность из пассивного состояния временами переходила к активным действиям… Я раскаиваюсь в этих поступках против государственного строя…
Заместитель Патриаршего Местоблюстителя митрополит Сергий в своей «Декларации» 1927 года повторяет те же клише советского новояза (навязанные теми же тайными редакторами из ГПУ):
Людям, не желающим понять «знамений времени», и может казаться, что нельзя порвать с… монархией, не порывая с Православием. Такое настроение известных церковных кругов, выражавшееся, конечно, и в словах, и в делах и навлекшее подозрения Советской власти, тормозило и усилия Святейшего Патриарха установить мирные отношения Церкви с Советским правительством.
Разница между этими цитатами в том, что Патриарх Тихон вынужденно оговаривает самого себя, а митрополит Сергий — своих собратий. Эта деталь, не бросающаяся в глаза в реалиях сегодняшнего дня, увы, имела совсем другое значение в условиях жестоких гонений. Об этом писал своему заместителю и сам патриарший Местоблюститель, священномученик Петр (Полянский):
Вы, Владыка, можете себе представить, с каким воплем у нас должны отнестись священнослужители, особенно томящиеся в тюрьмах и ссылках, к голословному заявлению о словах и делах, а затем и о постигшей многих горькой участи.
Но были у этих слов Сергиевой «Декларации» и другие последствия — куда более печальные, чем вопль духовенства. «Бросая… неправедное обвинение в контрреволюции, Вы тем самым поставляете всю ссыльную Церковь… и значительную часть остальных пастырей под постоянные удары подозрительной соввласти, которая только и выискивает предлоги для большего ущемления ненавистного для нее духовенства», — восклицал в письме митрополиту Сергию священномученик епископ Дамаскин (Цедрик).
Дальнейшее развитие событий подтвердило правоту такой оценки довольно обтекаемых слов «Декларации». Впоследствии митрополит Сергий много раз публично отрекался от священнослужителей и мирян, осужденных советской властью. Рефреном повторялись его публичные утверждения о том, что в СССР нет преследований за веру, а есть лишь отдельные факты справедливых наказаний священнослужителей за уголовные преступления. К великой скорби, такие публичные заявления главы церковной администрации развязывали руки безбожной власти для усиления гонений.

Подобное было немыслимо при патриархе Тихоне, глубоко скорбевшем о своих гонимых собратьях. За несколько месяцев до своей кончины он писал в ЦИК СССР:
Церковь в настоящее время… окружена атмосферой подозрительности и вражды, десятки епископов и сотни священников и мирян без суда, часто даже без объяснения причин, брошены в тюрьму, сосланы в отдаленнейшие области республики, влачимы с места на место.
Через пять лет после написания этих строк в публичных высказываниях митрополита Сергия прозвучала прямо противоположная позиция в отношении гонимых служителей Церкви.
«Патриархия, изъявившая свою полную лояльность и покорность Соввласти, несет на себе перед правительством ответственность за лояльность всего духовенства… — писал Заместитель в своем циркуляре. — К духовным лицам, не желающим или неспособным скоро усвоить себе правильное отношение к существующему государственному и общественному порядку, необходимо применять те или иные меры церковного воздействия».
«Декларация» 1927 года, пестрящая оборотами вроде «естественное и справедливое недоверие правительства к церковным деятелям», открывает собой скорбный ряд публичных высказываний священноначалия, в которых степень угодничества перед гражданской властью выходит за рамки простого приличия. Кажется, с тех самых пор в официальной риторике церковных структур патриотизм стал пониматься в значении безусловной лояльности по отношению к любой действующей власти и политическому режиму. Сейчас мы к этому привыкли, но для патриаршей Церкви 1927 года такой стиль был в новинку. «Лакейский подход Сергия к власти в его церковной политике — факт неопровержимый… — говорил на допросе один из самых злых критиков Заместителя, митрополит Иосиф (Петровых). — Сергий хочет быть лакеем Советской власти, — мы хотим быть честными, лояльными гражданами Советской Республики с правами человека, а не лакея, и только».
Патриарх Тихон еще мог говорить: «Пусть погибнет имя мое в истории, лишь бы Церкви была польза». Митрополит Сергий после 1927 года, наверное, уже не смог бы повторить таких слов. Теперь в официальной риторике путь уступок не нуждался в оправданиях, а имена мастеров компромисса должны были не гибнуть, но звучать в веках.
Новый тон
Была и еще одна причина, по которой компромиссы патриарха Тихона не вызвали и малой доли тех церковных нестроений, которые стали ответом на действия митрополита Сергия. Заключалась она в том, что святитель Тихон внимательно прислушивался к мнению внутрицерковных оппонентов и мог задним числом отменить любые компромиссные решения, когда видел их неприятие широкими церковными кругами. Такая судьба постигла публично задекларированные намерения патриарха ввести в состав Синода одиозного обновленца Красницкого или перейти на богослужение по григорианскому календарю («новому стилю»). Святитель Тихон открыто писал власть предержащим, что не может провести в жизнь уже принятое решение о «новом стиле», потому что оно отторгается церковным сознанием и грозит расколом.
Но инспирация расколов как раз и входила в планы закулисной государственной политики в отношении Церкви. И после 1927 года архипастыри и пастыри тщетно ждали от митрополита Сергия тех же возможностей «обратной связи», какие существовали при его непосредственных предшественниках. Напротив, одновременно с опубликованием своей «Декларации» (и даже чуть раньше), митрополит Сергий начинает практиковать частые переводы и увольнения епископов по требованию ГПУ; а после появления голосов протеста — широко применять церковные наказания в адрес недовольных.
Эту практику хорошо описали архиереи Ярославской церковной области во главе со священноисповедником Агафангелом (Преображенским) в своем открытом письме митрополиту Сергию:
На место возвещенной Христом внутрицерковной свободы Вами вводится административный произвол… По личному своему усмотрению Вы практикуете бесцельное, ничем не оправдываемое перемещение епископов — часто вопреки желанию их самих и их паствы, назначение викариев без ведома епархиальных архиереев, запрещение неугодных Вам епископов в священнослужении.
Сейчас нам трудно понять, с какой стати первоиерарх должен интересоваться желаниями епископа (и тем более паствы) перед тем, как совершить перемещение епископа. Но столь привычные сегодня авторитарные действия священноначалия вызывали искреннее недоумение в конце 20-х годов. Священномученик Дамаскин (Цедрик) удивлялся упорству митрополита Сергия, «с каким он от начала своей деятельности и до сих пор продолжает игнорировать мнение подавляющего числа иерархов, несогласных с его курсом, как и голос возмущения верующих масс».
Мы отчасти сможем понять причины этого недоумения, если на нескольких примерах рассмотрим стиль административных распоряжений тех самых иерархов, которые выступили оппонентами Заместителя. В 1928 году епископ Иерофей (Афонин) объявил своей пастве об отходе от митрополита Сергия в таких выражениях:
Желая слышать, дорогие чада, что вы единодушны и единомысленны со мною, а также уважая свободу вашего самоопределения, предлагаю огласить и обсудить мое послание на собраниях верующих, дабы все знали положение дела и свободно пришли в единение со мною.
«Я думаю вернуться в Казань, — говорил на допросе в 1930 году архипастырь с непререкаемым церковным авторитетом, священномученик митрополит Кирилл (Смирнов), — где буду молиться с теми, кто захочет молиться со мной. Принуждать к общению со мною никого не намерен, так как в церковном вопросе не признавал и не признаю административного командования». Так или примерно так представлялся тогда многим чадам Церкви нормальный тон церковного руководства.
В условиях полулегального положения гонимой Церкви постепенно стиралась граница между администрированием и пастырством, а послушание священноначалию виделось как естественное проявление осознанного единомыслия.

Оппозиционные митрополиту Сергию епископы нередко принимали жесткие административные решения, но всегда стремились объяснить церковный смысл своих действий, не апеллируя к понятиям дисциплины и послушания. «Церковная дисциплина способна сохранять свою действенность лишь до тех пор, пока является действительным отражением иерархической совести Соборной Церкви; заменить же собою эту совесть дисциплина никогда не может», — писал в 1929 году святитель Кирилл.
Любовь и вражда
Оценка церковной деятельности митрополита Сергия со стороны его критиков (часто именуемых «правой оппозицией») была очень разной. Спектр мнений и стратегий простирался от полного сохранения церковного общения до радикальных обвинений Заместителя в ереси и вытекающих из этого заявлений о безблагодатности совершаемых им и подведомственными ему священниками Таинств.
Наиболее авторитетные оппоненты Заместителя, а в недавнем прошлом ближайшие единомышленники патриарха Тихона — священномученик Петр (Полянский), священноисповедник Агафангел (Преображенский) и священномученик Кирилл (Смирнов) — не только не обвиняли митрополита Сергия в ереси или расколе, но с определенными оговорками признавали его административные полномочия. Эта позиция отнюдь не свидетельствовала о готовности к компромиссу (двое из трех перечисленных архипастырей разорвали евхаристическое общение с митрополитом Сергием, рассматривая этот разрыв как дисциплинарную меру воздействия — сегодня звучит странно, не правда ли?)… Но определенно свидетельствовала о стремлении не форсировать церковное размежевание и сохранять дух христианской любви к оппоненту.
Сохранение любви к обличаемому собрату мыслилось насущной задачей, вербализировалось в наставлениях пастве. Ссыльный святитель Кирилл писал:
В мою пустыню доходят слухи о разрастающейся среди братии по вере вражде, переходящей в ненависть; укоризнах, переходящих в клевету с одной стороны на другую; о ревности не по разуму, граничащей с хулою на Духа Святаго, каковы взаимные обвинения в безблагодатности. Горестно слышать это. Бог есть любовь, и только пребывающий в любви в Боге пребывает. Поэтому всякое раздражение должно быть совершенно удалено из нашей среды, хотя бы и сыпались на нашу голову обвинения во вражде и приговоры о раскольничестве. Обвинениям этим не к чему прилипнуть, когда вражды в действительности нет.
О том же писал духовным чадам единомышленник и последователь митрополита Кирилла, священноисповедник Афанасий (Сахаров): прерывание общения с «сергианами» возможно лишь «при условии, если это делается по искренней ревности, — со скорбию, а не со враждою».
В то же время отношение митрополита Сергия к своим оппонентам, за единичными исключениями, не демонстрирует существенных вариаций, ограничиваясь привычным нашему слуху языком вражды и угроз. Главными проявлениями упомянутого выше «административного произвола» Заместителя стали щедро раздаваемые церковные прещения и обвинения в расколе, со всеми вытекающими из них последствиями (вплоть до запрета отпевать усопших). И нет большой новизны в том, что спустя столетие приемники патриарха Сергия с легкостью записывают в раскольники едва ли не половину православного мира.
Свобода и спасение
Архивные документы тех лет прямо свидетельствуют о том, что церковные меры наказания «несогласного» духовенства, осуществляемые митрополитом Сергием, в отдельных случаях направлялись непосредственно рукой ГПУ. С нашей колокольни внешнее давление видится как «смягчающее обстоятельство» в оценке действий Заместителя. Но современники митрополита Сергия нередко расценивали это уступничество внешней враждебной силе как обстоятельство отягчающее — «нечто более страшное», чем его личные заблуждения.
После 1927 года прогибание церковного руководства под требования власти было слишком очевидным и вызывало целую лавину критики. Сыпались упреки в том, что митрополит Сергий и его соратники «отказались от одной из главных сущностей Церкви — ее свободы, поступились ее достоинством… из-за убогих человеческих соображений, из-за призрачных льгот от врагов Церкви» (священномученик Дамаскин). Оппоненты Заместителя слишком высоко ценили свободу Церкви от вмешательства государства — существенно выше даже такого бонуса новых церковно-государственных отношений, как последовавшая в 1927 году легализация органов церковного управления.
Нетрудно заметить, что несогласие представителей «правой оппозиции» с курсом митрополита Сергия на выстраивание новых отношений с государством было следствием более глубоких мировоззренческих расхождений (расхождений в ответе на вопрос, в чем же заключается та самая «польза Церкви»). Митрополит Сергий всеми силами старался сохранить организационную структуру Церкви, драгоценную возможность легального служения и совершения Таинств. Его критики видели в этом стремлении мировоззренческий крен, завышенное внимание к внешним проявлениям церковной жизни. Известны слова священномученика Дамаскина (Цедрика), определившего «сергианство» «как сознательное попрание идеала Святой Церкви ради сохранения внешнего декорума и личного благополучия».
Сегодня для многих из нас кажется очевидным, что польза Церкви заключается в укреплении ее структурных институтов, а возрождение Церкви — в возведении храмов. Но в те далекие годы подобный подход нередко вызывал нарекания.
«Обычно принято в понятии “Церковь” видеть наличие синодального управления, указов, циркуляров, пышного представительства и т. п. Закрытие храмов рассматривается как ликвидация Церкви. Это глубоко ошибочный взгляд», — писал в 1936 г. тот же святитель Дамаскин. Священномученик Сергий Мечев в 1933 году дерзал называть подобный взгляд грехом Церкви, «возлюбившей внешнее паче внутреннего и обряд больше духа». Вожди этой Церкви, по слову священномученика, «дипломатические таланты архиереев поставили выше слова Божия, на них возложили надежду, в них положили свое спасение».
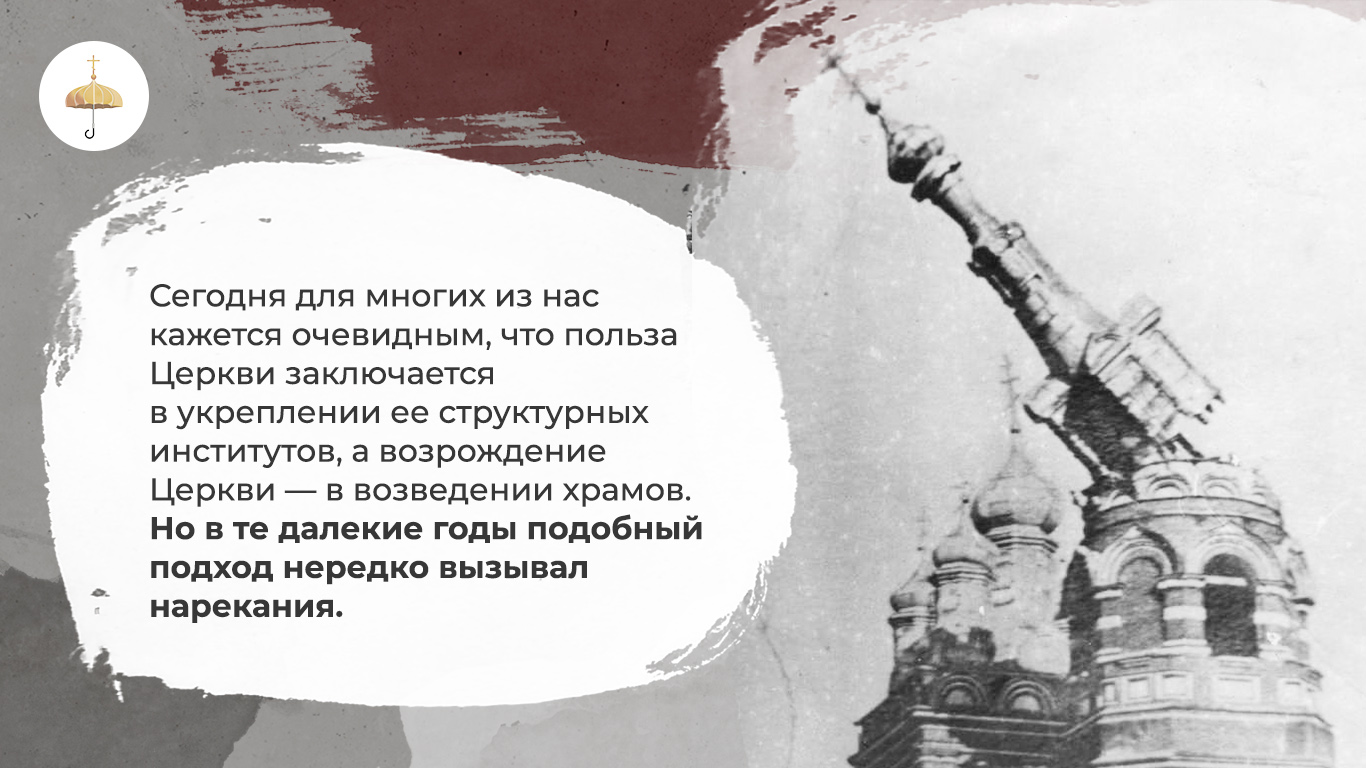
Возможно, разногласия между «правой оппозицией» и митрополитом Сергием в понимании пользы Церкви уходят корнями в вопросы сотериологии (богословского учения о Спасении). Еще в 1922 году священномученик Вениамин (Казанский) писал о том, что Церковь спасают не пастыри (путем сохранения ее «живых сил»), а только Сам Христос. Эту же мысль позже, в частном письме, повторил эзоповым языком священномученик Серафим (Самойлович), приложив ее непосредственно к деяниям митрополита Сергия:
Грустно, что он и его друзья взялись за спасение хозяйства, забывши, что они сами спасаются хозяйством и в хозяйстве. Они забыли, что Основатель хозяйства имеет на то все права, а они уже лишили Его этого права, усумнились в Его возможности спасти хозяйство — почли последнее за простое смиренное учреждение.
Буква и дух
К упрекам в адрес митрополита Сергия в примате «внешнего» над «внутренним», вскоре добавились и упреки в примате буквы над духом. Оппоненты указывали Заместителю, вполне заслуженно считавшемуся величайшим знатоком церковных канонов, что его причудливые интеллектуальные конструкции из канонических правил (иногда откровенно «подогнанные» под обоснование нужного распоряжения) стали подменять собой живой дух «тихоновской» Церкви. Тогда как в истории древней Церкви все случалось наоборот: соборный Дух диктовал формулировки канонов.
На поверхности лежал пример использования буквы канона вне его духа и контекста — частые ссылки Заместителя на 34-е апостольское правило, предписывающее «епископам всякого народа знать первого в них и признавать его как главу». Регулярно цитируя своим оппонентам первую часть этого канона, митрополит Сергий столь же регулярно игнорировал вторую его часть: «но и первый ничего да не творит без рассуждения всех, ибо так будет единомыслие, и прославится Бог о Господе во Святом Духе». «Если мы подсудны ему — писал о митрополите Сергии митрополит Антоний (Храповицкий), — то и он без нашего рассуждения ничего не должен творить по 34-му правилу св. апостолов, а между тем он никогда не спрашивал нашего мнения ни о чем».
Действительно, вместо «рассуждения всех» (в самых разных формах практиковавшегося при патриархе Тихоне) — с 1927 года все ключевые решения по вопросам управления Церковью принимались узкой группой «посвященных» лиц, называемых Временным Патриаршим Синодом (посвященных, вероятно, в условия закулисных переговоров с внешними силами). Эти же «посвященные» фактически претендовали на монополию толкования церковных правил для обоснования своих административных действий. Остальным предлагалось либо принимать пользу нововведений на веру, либо (по словам той самой «Декларации») «не мешать нам, устранившись временно от дела».
«Боязнь потерять Христа побуждает христианина не бежать куда-то в сторону от законного священноначалия, а наоборот, крепче за него держаться и от него неустанно искать разъяснения по всем недоумениям, смущающим совесть», — писал митрополит Сергий в одном из посланий. Такое понимание церковной субординации, соединенное с монопольным правом своеобразной касты «книжников» давать разъяснения по всем недоумениям, сейчас воспринимается как нечто очевидное. Но в конце 20-х гг. оно казалось новшеством. Да и сама роль писаных канонов в повседневной жизни, возможно, понималась тогда не столь «законнически». Как писал один из оппонентов Заместителя:
Нельзя формально применять каноны к решению выдвигаемых церковной жизнью вопросов, вообще нельзя ограничиваться правовым отношением к делу, а необходимо иметь духовное чувство, которое указывало бы путь Христов среди множества троп, протоптанных дикими зверями в овечьей одежде. Жизнь поставила вопросы, которые правильно, церковно правильно, возможно разрешить только… руководствуясь чувствами, обученными в распознании добра и зла.
Священномученик Кирилл, как всегда, был более лаконичен. «Не злоупотребляйте, Владыко, буквой канонических норм, — писал митрополиту Сергию, — чтобы от святых канонов не остались у нас просто каноны».
Правда Церкви
Многократно звучавшее утверждение о том, что привычные нам реалии cергиевского курса были в конце 20-х годов новшеством, требует одной важной оговорки. В 1927 году это «новое» нельзя было назвать «хорошо забытым старым». То было «старое», которое слишком хорошо помнилось. Административный и идеологический диктат государства, резкое ограничение внутренней свободы Церкви и соборного начала, авторитарная «вертикаль власти», частые перемещения епископов без объяснения причин — все это было рутинной практикой синодального периода истории Церкви, длившегося два долгих века и закончившегося лишь за 10 лет до описываемых событий.
Не было случайностью, что в число оппонентов митрополита Сергия вошли церковные мыслители, весьма негативно оценивавшие этих два столетия. «Печальное наследие синодального периода Церкви — это показатель угасания духа в Церкви», — писал многократно процитированный нами священномученик Дамаскин (Цедрик). Нечто подобное говорили и такие яркие представители «правой оппозиции», как священноисповедник Афанасий (Сахаров), священномученик Сергий Мечев, священномученик Анатолий Жураковский.
Но тем дороже для этих архипастырей и пастырей была внутренняя свобода Церкви и дух соборного единения, обретенные таким духовным трудом на Поместном соборе 1917–1918 годов и испытанные такими жертвами в наступившую эпохой гонений. Тем более неприемлемым для них было расставание с этой свободой, измена ее духу. Наверное, противостояние «правой оппозиции» курсу митрополита Сергия можно рассматривать в ключе борьбы за некий идеал церковного устройства в его противопоставлении грубому прагматизму.
В заключение нужно сказать, что сама «Декларация», с ее гладкими и обтекаемыми фразами, не произвела летом 1927 года эффекта разорвавшейся бомбы. Многие будущие критики митрополита Сергия тогда и вовсе не заметили этого документа; не смогли, по выражению святителя Дамаскина, «разобраться в тонком лукавстве сергиевского курса».
Разрыв архиереев, священников и мирян с Заместителем принял массовый характер только в 1928–1930 годах и стал ответом на весь комплекс проводимых им мер и на общий стиль его руководства. В письме святителю Кириллу митрополит Сергий с легкой иронией указывал на некоторую непоследовательность предъявляемых ему претензий:
Вам не нравится, например, учреждение Синода, другому — декларация, третий найдет, что я слишком снисходителен к падшим, четвертый, наоборот, что я слишком к ним строг и т. д., и т. д.
Митрополит Кирилл ответил ему предельно лаконично:
Ваши воззрения на пути осуществления Церковью своего призвания в здешнем мире нарушают правду Церкви и искажают ее православное лицо.
Не менее строго святитель высказался и в 1937 году, незадолго до своей мученической кончины: «Митрополит Сергий отходит от той Православной Церкви, какую завещал нам хранить Святейший Патриарх Тихон».
Можно соглашаться или спорить с этой оценкой. Но следует признать, что путь, который священномученик Кирилл считал отходом от «тихоновской» церкви, имел первым шагом появление знаменитой июльской «Декларации» 1927 года. Автор надеется, что этот текст, написанный несколькими довольно грубыми штрихами, сделает для читателя более красочной общую картину событий 95-летней давности.




