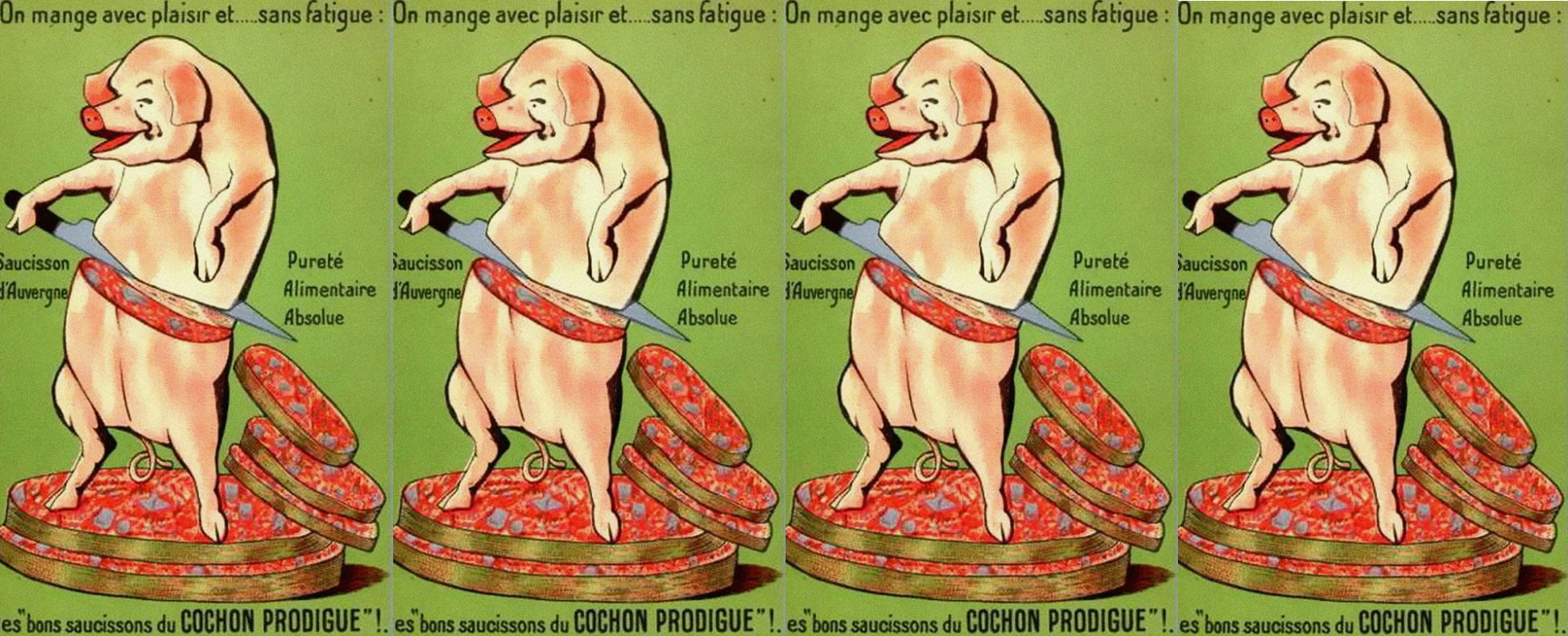«Пост — это не про еду» — высказывание в высшей степени подозрительное, не столько даже по своей явной абсурдности, сколько по своей ритуальности. Каждый пост надо непременно это повторить; вот что тут подозрительно: чему служит этот ритуал? — похоже — способом придать некий смысл этой кажущейся участникам дискурсивного ритуала бессмыслице: пост есть религиозно обоснованное пищевое ограничение; смысла в этом не проглядывается, и поэтому как бы извне ему придают тот или иной «духовный» смысл. Эту машинку нужно сломать: пост есть именно нечто «про еду» — некое пищевое ограничение, имеющее как таковое свой имманентный смысл, не нуждающейся тем самым во внешней «духовном» толковании; этот имманентный, собственный смысл поста нами потерян; эта потеря компенсируется указанным ритуальным высказыванием.
1/6. «Забота о себе» Мишеля Фуко
Пищевое ограничение, осознанное выстраивание своих отношений к функции питания — есть нечто классическим образом философское, это просто и есть подлинная классическая философия, как показал Фуко (этот атеист вообще актуализировал на удивление много «духовных» вообще и христианских в частности смыслов). Человеческое существо выстраивает себя как истинного субъекта, подлинного себя в особых практиках субъективации в отношении к истине, в особых практиках себя, в культуре себя, в культуре заботы о себе, в искусстве существования. Человеческое существо ввиду так или иначе понятой истины направленно трансформирует себя в истинную форму через специальную организацию своих отношений к себе и окружающему миру, а в частности к еде, к функции питания. Отсюда — неизбежность, необходимость практик поста, диетики во всех достаточно проработанных традициях практик себя, а в частности в позднеантичных философских практиках себя, изучавшихся Фуко в «Заботе о себе» — третьем томе «Истории сексуальности». Тут мы узнаем, что озабоченность своим питанием входила в классическую культуру заботы о себе, что было вытеснено специфически современно-западной озабоченностью сексом (эта странная фиксация на сексе современного западного общества — главный предмет исследования и критики «Истории сексуальности»). Фуко различал две парадигмы философии: 1) спекулятивную, аристотелевско-томистско-картезианскую — ту, что обычно понимают как философию вообще, и каковую Фуко считал формой предательства истинной философии, продуктом ее вытеснения, забвения; 2) практикальную, альтернативную первой, философию как практическое отношение к истине, куда всегда входили пищевые ограничения, понимаемые и практикуемые в качестве духовных упражнений. Для первой, спекулятивной парадигмы вопросы вроде поста кажутся просто смешными: живой индивид и такие его приземленные компоненты как питание тут понимаются как нечто низменное, не важное, не идущее к делу; для второй, практикальной парадигмы философии все наоборот: для нее истина есть нечто прямо касающееся живого индивида, коль скоро тут и идет речь о том как он выстраивает себя относительно истины: здесь разумеется, философия не может игнорировать такую важнейшую компоненту живого индивида как питание: это философское, то есть с точки зрения истины, ввиду истины, относительно истины отношение к еде есть пост. Не надо искать какого-то особого духовного смысла поста, коль скоро пост как пищевое ограничение располагается в самой сердцевине философии. Современное (псевдо)понимание поста — лишь частный (хотя и очень красноречивый) пример полного извращения понятия о аскезе. Фуко ясно и четко показывает, что аскеза — философское упражнение, упражнение в постановке себя в отношении к истине, а аскетика — дискурс таких упражнений. Функция питания, практики потребления еды составляют неустранимую компоненту «себя», и, следовательно, задача направленной трансформации «себя» в истинную самость в обязательном порядке предполагает практики, ставящие функцию питания, практики потребления еды в связь с истиной, то есть предполагают пост. Пост — это философия.
Позднеантичная философская диетика переходит в христианский дискурс поста. Почитаем на этот счет только два святоотеческих текста, которые не оставляют никакого сомнения в принципиальной важности поста.
2/6. «Первое слово о посте» свт. Василия Кесарийского
Святитель Василий Великий в своем первом слове о посте пишет:
«Пост – дар древний, не ветшающий, не стареющийся, но непрестанно обновляемый и цветущий во всей красоте. Думаешь ли, что древность его считаю со времени происхождения закона? Пост старше и закона. Если подождешь немного, то уверишься в истине сказанного.
Уважь седину поста. Он современен человечеству. Пост узаконен в раю. Такую первую заповедь принял Адам: «от древа…, еже разумети доброе и лукавое, не снесте» (Быт 2:17)» —
это мы можем встретить у многих Отцов: пост — первая заповедь. Питание для человеческого существа — не «естественно» с самого начала — с момента его появления в качестве человека, то есть существа имеющего дело с Богом — Абсолютной Истиной, что имплицирует ряд практик себя ввиду Истины, а в частности имплицирует положение, при котором питание — «естественная функция» — у этого существа помещается в контекст искусства (практик, техник) себя, становится искусственным, осознанно управляющимся. Функция питания в человеке дисбалансирована, не подчиняется природным алгоритмам, то есть перемещена в пространство культуры, табу, заповедей, что имплицирует пост как конститутивную черту культуры себя, аскетики. Так, по свт. Василию Великому, дела обстояли еще до грехопадения человека: не-естественность питания для человека — элемент его райского состояния, притом — как опять же подчеркивает не один только свт. Василий среди Отцов Церкви — практики потребления еды в райском состоянии были иные, чем после грехопадения:
«жившим в раю не приходило на мысль, что впоследствии изобретено человеческим примышлением: заклание животных.
В раю не было ни вина, ни заклания животных, ни мясоястий».
Райский человек — вегетерианец. В итоге вообще вся теология грехопадения и спасения ставится свт. Василием — и опять: не им одним — в контекст питания:
«пoелику мы не постились, то изринуты из рая. Потому будем поститься, чтобы снова взойти в рай.
Пост рождает пророков, укрепляет сильных; пост умудряет законодателей. Пост – добрая стража души, надежный сожитель телу, оружие людей доблественных, училище подвижников. Он отражает искушения, умащает подвизающихся в благочестии; он сожитель трезвости, делатель целомудрия».
3/6. «О воздержании от брашен, возбраненных монахам» прп. Василия Поляномерульского
«О воздержании от брашен, возбраненных монахам» — небольшой трактат преподобного Василия Поляномерульского, великого учителя христианской культуры себя (аскезы) — может быть вообще главное святоотеческое сочинение по теологии питания. Здесь выясняется, что запрет на мясоядение — первая заповедь, данная Богом людям, и одна из черт райской жизни, восстановленной Новым Заветом. Интересно, что прп. Василий рифмует мясоядение с жертвоприношениями: две формы кровопролития, насилия, явившихся после грехопадения и отмененных христианством — как отменены жертвоприношения, так надо и перестать есть мясо:
«Если некоторые из древних монахов и были причастны к мясоядению, то эти обычаи их так же принимал Бог, как и ветхозаконные кровавые жертвы. «Ибо явно, что изначально Бог не хотел установить им такие жертвы, но, снисходя немощи их и видя их неистовствующих и обуреваемых желанием жертв, попустил им», — сказал божественный Златоуст. Так и вкушение мяса: изначально не столько была на это воля Божия, сколько снисхождение и дело вынужденное. Изначально сам Бог законоположил это [запрет мясоедения], вкушение же мяса попущено было Богом только по одной немощи нашей, так же как и древним — приношение в жертву скота».
Не есть мяса в таком контексте — способ помещения себя в пространство ненасилия посредством повседневных практик (точнее, основной из них — питания) — обыгрываемых ими представлений и ценностей (райская истина — ненасилие, и я встройкой своего питания в логику этой истины подключаю себя к ней и актуализирую ее в своей ситуации); такая, в общем, важная вещь на символико-психологическом уровне: этот эон пропитан кровью, но я своим телом, своим умом, своей повседневностью представляю (пусть только для себя — это может и важнее всего) Альтернативу ему. Вот несколько аргументов прп. Василия собственно о запрете мясоядения:
«Бог ни Сам, ни через святых ангелов или птиц небесных никогда в новой благодати не подавал рабам своим мяса, но только хлеб и рыбу. Всё это уверяет нас в том, что не подобает нам есть ныне мясо, так как Божие свидетельство о том, что нужно воздерживаться от мяса намного больше и достовернее, чем человеческое разрешение. В этом уверяя нас, Бог никогда не является посылающим рабам своим пищу мясную. Поэтому более до́лжно нам покоряться доброму преданию святых отцов, запрещающих вкушение мяса, нежели тем, которые вкушают его и другим позволяют. Ибо и Сам Христос Господь, почитая закон о пище, данный в раю Адаму, насытил, как сказано, четыре тысячи мужей семью хлебами и малыми рыбами и потом пять тысяч, кроме жен и детей, пятью хлебами и двумя рыбами. Но нигде Он не является вкушающим мясо. И видя, что евангелисты ничего не упоминают о мясе, показывая Христа Господа вкушающим только рыбу, хлеб и мед, веруем, что это, в указание совести нашей, не что иное, как только предпочтение закона о пище, данного в раю Адаму изначально, и это пример и предписание употреблять такую пищу, а не мясо. Ибо всё богомужное житие Господа на земле и подвиги Его были примером и образцом для нас, чтобы мы последовали стопам Его, ибо Он сказал: «Аще кто Мне служит, Мне да последует». Вкушение мяса противоречит закону, данному изначально Богом, и вменяется в непослушание и самочиние перед Богом. Преподобные отцы, которые, покоряясь преданию древнейших святых отцов, принимали в пищу только одни семена, елей, рыбу, сыр и молоко, и ни одного из них мы не видим питающимся мясом. Воздержание от мяса – первый закон Божий, а не одно предание святых отцов. Не есть мяса до потопа было общим законом для всех людей, изначально данным Адаму Богом в раю. А то, что после потопа стали вкушать мясо, представляется скорее попущением Божиим и снисхождением к невоздержанию нашему, чем законом Божиим. «Ибо после потопа, – сказал Василий Великий, – позволено Богом Ною и после него всем людям есть мясо, не как нужное естеству нашему, но как снисхождение немощи нашей. Ибо ведал Господь, что люди жестоки, и попустил. И по такому попущению и прочие животные начали есть мясо без боязни, восставая друг на друга. Возможно тем, кто желает, подражая жизни райской, и ныне руководить собой и направлять самих себя к этому житию, избегая наслаждения многими и различными яствами и употребляя в пищу плоды и семена древесные».
«Аскеза как жертва Богу» — пример того, как разоблаченная Новым Заветом жертвоприносительная логика переподчиняет на следующем этапе религию, считающую себя основанной на Новом Завете. Ограничение, лишение себя благ, причинение себе страданий и т. п. формы обращенного на себя насилия понимаются как принесение себя в жертву Богу, между тем как в логике, препятствующей регрессу обратно в жертвоприносительный диспозитив, аскеза понимается как набор приемов, техник, навыков налаживания блаженной райской жизни: не причинение себе страданий, но прямо наоборот — полный выход из пространства страданий. Скажем, запрет на мясоядение, как и вообще христианская диетика — не жертва, а компонента управления собой, направленного на возвращение в рай, напрямик увязанное с отменой жертвоприношений; так же как, например, девство — опять же не форма жертвы, а компонента ангельской совершенной жизни, так же как и послушание — не принесение в жертву своей воли, а техника перенастройки психики на совершенную жизнь и логика межчеловеческих отношений, отвечающих этой жизни; так же как и «нищета» — опять и опять не жертва, а преломление совершенной жизни в экономической сфере. Все это — аспекты блаженной жизни, полноты совершенства, а не жертвы, не лишения благ и пр. Монашество — в своем идеале и замысле, но слишком часто не в своей эмпирике — христианская жизнь в полной комплектации, то есть — восстановленная райская жизнь, эсхатологическая ангельская жизнь, блаженство Царствия здесь и сейчас. Христианство — оно про совершенную жизнь; жертвоприносительный садомазохизм — он про век сей, от коего освобождает нас христианство, если само оно не обратилось в жертвоприносительный садомазохизм, в архаику табу, чистого/нечистого и т. п. (Интересно, что запрет на мясоядение так и не стал строгим в монашестве именно в пику диспозитиву табу и запретов (табу, запрет — форма принесения в жертву запрещаемого, табуированного и тут же — форма принесения в жертву себя — лишения себя таких-то благ и пр.): «еретики» учили о нечистоте мяса, вина и брака — то есть плоти мира вообще — именно в символическое опровержение этого — «на возражение еретичествующих» — монахи употребляли мясо: плоть мира чиста и блага, созданная всеблагим Божеством для блаженства и обожения; см. историю Петра и Павла вокруг нарушения кашрута: для самого оформления христианства была важна отмена пищевых запретов как символ отмены диспозитива чистое/нечистое и — нужно опять это повторить — идущим в одном движении с прекращением жертвоприношений.) Все это важно помнить, иначе пост перестает быть практикой истины и регрессирует к языческими диспозитивами жертвоприношения и чистого/нечистого.
Именно тут находим разгадку современных ритуальных повторений «пост — это не про еду»: слова эти направлены как будто бы против регресса поста в архаику чистого/нечистого, сакрализованных запретов — но поскольку тут не в силах вспомнить истинный смысл поста и актуализировать его, то де факто это повторение само встраивается в ритуал регресса поста, в его — этого регресса — ритуальное отреагирование, служит как бы его компенсацией, встроенной в него же как непременный элемент. Регресс поста в жертвоприносительный диспозитив компенсируется — и тем оправдывается! — в ритуальных заверениях о некоем «духовном» смысле этого регресса, что тут-де «не в еде дело».
4/6. «Объядение, лакомство, чревоугодие: учение отцов-пустынников о еде и посте (на основе текстов Евагрия Понтийского)» схиархим. Гавриила (Бунге)
Но даже если пост в действительности располагается в центре философии и теологии, то не все ли равно на это «современным людям» и зачем поститься «сегодня»? — на этот вопрос было бы очень легко ответить, если бы сами христиане еще помнили смысл поста, а не ритуально провозглашали, что «тут дело не в еде»: в том-то и дело, что тут дело как раз в еде. В мире эпидемий ожирения, расстройств пищевого поведения, всяческой активности (дискурсивной и практической) вокруг еды христианство как раз таки и могло бы сказать нечто «архисовременное» именно в своем дискурсе поста.
«Объядение, лакомство, чревоугодие: учение отцов-пустынников о еде и посте (на основе текстов Евагрия Понтийского)» схиархимандрита Гавриила (Бунге) — замечательная, доходчивая и притом глубокая книга о христианском отношении к еде. Книга эта особенно ценна тем, что здесь излагается святоотеческое учение о еде в контексте современности — зацепкой для автора стала эпидемия булимии:
«Этому пороку предаются в одиночестве и он не приносит настоящего удовлетворения. Многочисленные признания свидетельствуют о том, что тот, кто ему предается, сначала планомерно заготавливает все необходимое, затем тщательно запирается, занавешивает окна и начинает есть, чтобы теперь, в полном одиночестве, набить себе глотку буквально до краев. Причем всем, что только найдется в холодильнике и может доставить удовольствие, вплоть до припасенных консервов. Это сопровождается утонченно продуманной последовательностью блюд, в результате чего поглощенная пища становится совершенно не перевариваемой. Картина прискорбная: в конце концов все заканчивается тошнотой и рвотой, истерическим плачем и полным отчаянием. Налицо душевно-телесный надлом».
«Первый помысел — чревоугодия»
по Евагрию. Он, кстати, замечательно тематизирует чревоугодие: оно — не просто тяга к еде, а именно «зацикленность» на еде, делание из еды проблемы:
«Помысел чревоугодия внушает монаху поскорее отступить от подвижничества: он представляет иноку его больной желудок, печень, селезенку или же описует водянку, а также иные продолжительные болезни, указывая на недостаток необходимых вещей и на отсутствие врачей. Часто он возбуждает воспоминания о тех братиях, которые подверглись подобным страданиям. Бывает и так, что он побуждает пострадавших подходить к постникам и рассказывать о своих несчастиях, которые якобы случились вследствие излишнего подвижничества».
Евагрий, этот монах, этот великий учитель духовной жизни, один из тех, кто заложил основы христианской аскетики, — он волнуется о своем здоровье в связи с едой, пишет о еде и пр. — формально «как мы», по существу дела — конечно, не «как мы», а отвечая на наши глубинные вопросы — те, что мы и не в силах даже четко задать.
5/6. «Великий пост и общество потребления» митр. Каллиста (Уэра)
Да, пост — в центре современности. В том числе и социально-политически. Пост есть радикально антипотребительская практика. К принципиальным чертам поста принадлежит экономия на еде ради помощи бедным: солидарность, самопожертвование, борьба с социальной несправедливостью. Не сверхактуальные ли это ценности в нашу эпоху? И более глубинно: обуздать тягу к потреблению в наиболее первичной его форме — еде; «приручить» функцию питания, дестабилизированную Капиталом; ввести основу человека — питание — в сакральное пространство, «освятить» его.
В статье митрополита Каллиста (Уэра) «Великий пост и общество потребления» разбираются разные смыслы Великого поста в контексте современности, дается ряд ответов на вопрос «Как мы в современном нам потребительском обществе должны понимать назначение Великого поста?»
«Великая четыредесятница утверждает мировоззрение, полностью противоположное стандартам нашего потребительского общества»,
— утверждает владыка Каллист.
Он особо подчеркивает идею солидарности, общности, противостоящие атомизации и «индивидуализму» общества потребления:
«цель всякого пира — именно выразить koinonia и братство людей. Пища здесь — связующее звено, и поэтому каждая совместная трапеза есть утверждение общности»
— помимо прочего, это подразумевает дела милосердия, социальную активность, реальное восстановление общности, а не на словах и в символах только.
О том, что пост — не есть проклятие миру, а наоборот, его благословение, митр. Каллист пишет:
«Наши тела созданы Богом, и значит, по существу своему хороши. Пища и питие, как и сексуальность, есть дар Божий; все материальные вещи могут быть таинством Его присутствия, средствами общения с Ним. Почему же тогда мы должны воздерживаться и поститься? Дело в том, что хотя мир, как творение Божье, “хорош весьма”, это в то же время мир падший. Пост и воздержание исправляют наши взаимоотношения с материальным миром, очищая нас от последствий нашей греховности и восстанавливая первоначальное видение сотворенного мира. С этой точки зрения аскеза — не отрицание, а утверждение внутренней святости всего материального. Наша цель — не подавление тела, но его преображение. Правильно понятая аскетика есть борьба не против, а за тело»
— а, как мы знаем, у наших современников более чем хватает проблем со своим телом, кроме уже упоминавшихся пищевых расстройств, скажем, автотравматизм и пр. Кроме этого, митр. Каллист проговаривает и множество других весьма актуальных вещей.
6/6. «Бычий голод» Джорджо Агамбена
Последним в этой подборке — но совсем не по важности! — будет текст Агамбена «Бычий голод», который послужит и переходом от постной к пасхальной тематике. Агамбен, опираясь на смысл шаббата, реконструирует нечто, что можно было бы назвать богословием праздника, а следовательно, и праздничной трапезы. Агамбен утверждает, что заповедь о субботнем покое не означает
«что во время празднования шаббата люди должны отказаться от какой-либо деятельности вообще. [Запрещена] вся сфера труда и производительной деятельности в целом. Вся область разрешённой деятельности и поведения [в шаббат], от самых обыденных занятий до торжественных и хвалебных песнопений, пронизана той неопределимой эмоциональной тональностью, которую мы называем “праздничностью”. В иудеохристианской традиции этот особенный вид коллективной жизни и деятельности выражается в заповеди (смысл её мы сегодня, кажется, совершенно позабыли) “соблюдать праздники”. Бездействие, являющееся основополагающим для понятия праздника, — это не просто инертность или воздержание, а именно соблюдение, то есть особенная форма поведения и жизни».
И вот оказывается, что праздник как особое состояние, особая деятельность, современным людям не доступен:
«Несмотря на некую сохранившуюся еще ностальгическую выразительность, праздник, более чем очевидно, перестал быть тем, что мы проживаем с истинной верой. В этом смысле Кереньи сравнивал потерю праздничного ощущения с состоянием человека, который хочет танцевать, но больше не слышит музыки. Музыки мы больше не слышим, мы не умеем больше “соблюдать”. И, тем не менее, мы не можем отказаться от праздника, продолжая в любом случае, даже вне официальных праздничных дней, следовать той особенной — и утерянной — форме поведения и жизни, которую мы называем “празднованием”. Мы упорно танцуем, компенсируя отсутствие музыки шумом дискотек и громкоговорителей, мы не прекращаем растрачивать и разрушать — причем чаще всего саму жизнь, — так и не достигнув состояния [праздника]». Интересно, что в уже цитировавшемся нами тексте Беньямин говорит нечто рифмующееся с мыслью Агамбена: «Капитализм — это отправление некоего культа sans (t)rêve et sans merci [без передышки и снисхождения]. Нет ни одного «буднего» дня, нет дня, который не был бы праздничным — в пугающем смысле развертывания всех помпезных священнодействий, крайнего напряжения радений».
Иными словами, капитализм нарушил ритм постов и праздников, обессмыслил человеческое время; нет собственно ни будней, ни шаббата, ни поста, ни праздника: также как капитализм дестабилизировал пищевую функцию. О последней Агамбен пишет:
«В Застольных беседах Плутарх рассказывает, как присутствовал в Херонее на празднестве под названием “Изгнание булимии”. Кого–нибудь из рабов, ударяя прутьями вербы, выгоняют из дверей, со словами: “Прочь, булимия, сюда, богатство, сюда, здоровье!” Boulimos в переводе с греческого означает “бычий голод”. Изгнать “булимичного” раба значит исключить определённый способ поедания пищи (пожирания или поглощения, как у зверей, пытающихся утолить заведомо неутолимый голод) и тем самым освободить пространство для иного вида питания — человеческого и праздничного, возможного только после того, как “бычий голод” будет изгнан, а булимия прекращена. То есть принятие пищи должно стать шаббатом питания. Ударами прутьев из веток авраамова дерева изгоняют из дома раба, воплощающего в своём теле бычий голод, который необходимо выдворить из города, дабы освободить место для праздничной трапезы. Точно так же и человек, страдающий булимией, ощущает всей своей плотью бычий голод, который уже невозможно выгнать из города. Часто страдающий ожирением, неуверенный в себе, неспособный держать себя в руках и потому, в отличие от анорексика, вызывающий всеобщее осуждение булимик оказывается напрасным козлом отпущения при невозможности подлинного праздничного поведения в наше время, бесполезным пережитком очищающей церемонии, смысл коей современные общества утратили».
Современность испытывает нечто вроде «бычьего голода», неудовлетворимого позыва к потреблению, ибо шаббат, праздник — то есть даруемый религией сакральный ход времени — более недоступен нам. Срыв религии сорвал и «человеческий» способ питания, оставив нам лишь «бычий голод». Трапеза сорвалась в булимию, пост — в анорексию. Великий пост есть нечто вроде изгнания «булимии», дарующей возможность шаббата питания в Пасху — преодоление анорексии. Пост может излечить пищевые расстройства современности — если мы вспомним его изначальные смыслы. Христианский пост явит свою острейшую актуальность, если мы окажемся способны понять его философскую глубину — и именно в «гастрономическом», буквальном его значении.
[в 4-й, 5-й и 6-й главках использован текст материала «Великий пост и общество потребления»]