
Слишком часто в современном русском православии противопоставляют христианство и «лжерелигию» гуманизма как чуть ли не полную противоположность христианству. И, следовательно, выставляют христианство как антигуманизм. Не то чтобы под этим не было оснований: возрожденческий и просвещенческий гуманизм (как и вытекший из них дискурс прав человека) имел немалый антихристианский импульс. И все же нужно настаивать на том — достаточно очевидном на самом деле — факте, что гуманизм есть не что иное, как продукт христианства. Приведем пять текстов в доказательство.
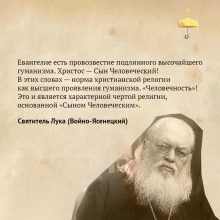
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) в своей замечательной книге «Наука и религия» много места уделяет христианской природе гуманизма. Просто процитируем — святитель Лука столь ясно излагает, что комментарии излишни:
«Евангелие есть провозвестие подлинного высочайшего гуманизма. Гуманизм, то есть любовь к человеку, к человечеству, естественно вытекает из Евангелия, как из своей основы. Между тем евангельская мораль часто представляется в совершенно измененном виде (по трактовке атеистов). То, что по Евангельскому учению считается недопустимым, преступным, греховным, выдается атеистами как сущность христианского учения. То, что Евангелие считает высшей добродетелью, изображается, как несовместимое с Евангелием.
Часто утверждают, что будто бы религиозная мораль в соответствии с общим религиозным мировоззрением освящает покорность человека господствующим над ним силам, объявляет святотатством активное отношение к жизни, провозглашает безнравственным сопротивление эксплуатации и высший нравственный идеал видит в смирении. Это настолько не похоже на правду, насколько черное не может походить на белое. Перед нами типичный «негатив», в котором вместо положительного везде поставлено отрицательное. Поверить всему этому могут только те, кто никогда не читал Евангелия.
Высший нравственный идеал Евангелие полагает в любви к человеку. Эта идея пронизывает все Евангелие. Вместе с тем Евангелие есть призыв к активному отношению к жизни, призыв к уничтожению всякой эксплуатации человека человеком.
Что касается смирения, то Евангелие учит тому, чтобы именно сильные смиряли себя перед своими собратьями, посвящая свою жизнь служению человечеству, примером чего является Сам Христос.
Иногда христианскую религию обвиняют в том, что будто бы она становится опорой социальной несправедливости, будто она ведет к отчаянию и неверию в возможность победы добра на земле, будто она насаждает идеологию рабства, пассивности и беспомощности и что она даже насаждает вражду к неверующим и к людям чужой веры.
Все это неправда! Христианская религия всегда восставала против социальных несправедливостей. Все Евангелие пронизано идеей победы добра над злом. Именно Евангелие дает уверенность в этой борьбе, оно призывает к сознательному и свободному проявлению человеческой воли и учит о нравственной свободе человека. Евангелие есть провозвестие об исключительном достоинстве человеческой личности. Евангелию чужда всякая вражда к иноверующим и неверующим.
Уже одно то, что из всех евангельских догматов самым главным является догмат о том, что Бог именно из-за любви к человеку Сам становится человеком, терпит все человеческие невзгоды, лишения и страдания вплоть до мучительной и позорной смерти, и все это, повторяем, именно из-за любви к человечеству, дабы призвать его к бессмертию и совершенству, уже одно это говорит об исключительном гуманизме самой догматики христианской религии. «Сын Божий становится Сыном Человеческим, дабы сыны человеческие стали сынами Божиими». И в этой догматике логически развивается и вся христианская мораль, весь христианский гуманизм.
Христос — Сын Человеческий! В этих словах — норма христианской религии как высшего проявления гуманизма.
«Человечность»! Это и является характерной чертой религии, основанной Сыном Человеческим».

Паламизм — мистико-догматическое ядро православия. И часто спор паламитов и варлаамитов изображают как спор истинно-православных и возрожденческих гуманистов. Разобраться в этом вопросе поможет книга выдающегося патролога протоиерея Иоанна Мейндорфа «Святой Григорий Палама и православная мистика». И снова цитируем:
«Все афонское монашество восстало против номиналистического гуманизма Варлаама и признало в Григории Паламе своего авторитетного выразителя» — Мейндорф часто выражается в таком роде, и, кажется, тут все ясно: строго православные паламиты против гуманистов. Но не все так просто. Возрожденческий «гуманизм» есть — помимо прочего — острое увлечение платонизмом, и вот тут скрываются все сложности:
«Ни одно учение не принесло христианскому благочестию столько вреда, сколько платоновский дуализм, усматривающий в человеке дух (или “душу”), заключенный в темницу материи,— бессмертный по своей природе и стремящийся к сверхматериальному существованию. Историческая обшина Церкви является для него тогда лишь бледным отражением. В таком случае ни Воплощение, ни Воскресение из мертвых, ни реальная община, основанная Иисусом на земле, ни материальная реальность Евхаристического общения не представляют истинного религиозного интереса.
Сущность же исихазма, наоборот, — видение Бога человеком, понимаемым как целостное существо. Только весь человек в целом может воспринимать благодать. Святоотеческое учение об обожении исихасты толковали именно в свете этого целостного гуманизма. Обожение не есть вознесение над природой одного только ума; оно не связано с какой-либо дематериализацией. Поэтому победа Паламы была победой христианского гуманизма над языческим гуманизмом Ренессанса.
“Гуманизм” есть понятие настолько общее, что без определенной квалификации оно вообще не имеет смысла: всякое учение, всякая идеология, ставящие человека в центр своего внимания, могут быть определены как “гуманизм”. Основным отличием взглядов Григория Паламы от варлаамизма следует считать унаследованное Паламой от греческих отцов церкви учение об особой функции в человеке, определяемой как “духовный разум”, или “образ Божий”, позволяющий иметь непосредственный “опыт Бога”, независимый от “созерцания тварей”, а также учение Паламы о человеке как о цельном психо-соматическом существе; это учение отличается от платоновского идеализма, определяющего человека как “душу, содержащуюся в теле, как в тюрьме”, и предполагает, что весь человек предназначен к общению с божественной жизнью. Бог стал плотью, чтобы сама плоть могла стать божественной.
В этом смысле к паламизму можно законно приложить понятия “христианского гуманизма” или даже “христианского материализма”».

«О христианском гуманизме» — классическая статья историка Георгия Федотова. Он пишет в 30-х гг. XX в.: контекст понятен. В этом — страшном — контексте Федотов защищает гуманизм, его христианский характер от двух — самым настораживающим образом пересекающихся — антигуманизмов: фашизоидного и «православного». «Человечность» явно не была ценностью для нацистов и фашистов (и аналогичных движений, в том числе в русской эмиграции), они бравировали своим антигуманизмом. Но и в православной среде развивался этакий «аскетический» антигуманизм а-ля «дух против души». Федотов видит здесь два симптома духа времени — симптомы восстания против евангельского учения о человечности, евангельской этики:
«Для большинства наших современников христианство и гуманизм представляются чем–то несовместимым. Наше православное возрождение отталкивается от гуманизма, утверждает себя, как нечто противоположное антихристианскому гуманизму. Гуманизм в эпоху краткого, но бурного существования, действительно, был преимущественно движением антихристианским. Таким он проявил себя не только в XVIII и XIX веках, когда он стал определенно антихристианским, но и в самом первом своем расцвете, в XV столетии, он обнаружился, как сила отрицательная. Однако, можно и должно говорить о гуманизме христианском, ибо гуманизм по своему происхождению есть явление христианское.
Что такое гуманизм? Гуманизм делает особое ударение на человеке, человеческой личности, человеческом творчестве. Это ударение может быть так сильно, что подчеркивание красоты и достоинства человеческой личности, силы и значения человеческого творчества превращается в удар, направленный против Бога, — человек противополагается Богу. Тогда гуманизм становится безбожием. Но гуманизм может развиваться и внутри религиозной сферы ценностей, может существовать в христианстве. Тогда это ударение на человеке противопоставит человека силам природы, социальному порядку, построенному на порабощении человеческой личности.
Говоря о гуманизме, следует отличать гуманизм творческий и гуманизм каритативный, альтруистический. Они связаны с двумя различными оттенками в понимании человеческой личности. Можно подходить к ней с утверждением силы, красоты, жизни этой человеческой личности — таков гуманизм эпохи Возрождения, — или же относиться к человеку, как существу страдающему и гибнущему, звать к сочувствию, к любви — это гуманизм каритативный, гуманизм сострадания («гуманность»). Сейчас, когда идет бой против гуманизма, удары направляются и по той, и по другой линии — и против творческого утверждения личности, и против сострадания к человеку. Нашу эпоху характеризуют как эпоху крушения гуманизма. Действительно, удары против гуманизма сыплются со всех сторон. И религиозные, и антирелигиозные течения объединяются в оппозиции против гуманизма. Гуманизм, несомненно, умирает, но смерть его отнюдь не обозначает торжества религии и христианства. На развалинах гуманизма утверждает или стремится утвердить себя культура антигуманистическая, противочеловеческая, но безбожная.
Проповедники нового христианства с презрением говорят о «розовом христианстве» прошлого, христианстве любви к ближнему. Человеческая личность должна быть принесена в жертву. Такая духовность безразлично относится к человеческим бедствиям. Она почти не знает сострадания, считает нехристианской борьбу против источников страданий и социальной неправды. Наоборот, новый аскетизм утверждает то, от чего отвращается любовь, как нечто духовно ценное и значительное. Он утверждает войну, так как она ведет к преодолению гуманизма, розового христианства.
Но центр Евангелия — живая, конкретная, духовно–душевная любовь, любовь и к Богу, и к человеку. Любовь к человеку является высшей мерой, решающим моментом и на Страшном суде. С точки зрения чистой духовности боль о том, что человек голодает, томится в тюрьме, стремление активно помочь ему — только «розовое» христианство. Но Христос судит об этом иначе. Для Церкви одна любовь и показывает настоящее место поста и аскезы.
Для нашего времени эта всегдашняя идея христианского гуманизма принимает особую направленность: она ставит задачу создания христианского общества, как общения личностей. Мир, раздираемый противоречиями, ждет от христианства ответа на вопрос о том, как установить общение между людьми. Это общение на религиозной основе возможно лишь тогда, когда мы увидим в ближнем отблеск Лика Христова, будем чтить в ближнем нерукотворную икону Христа. Для современного, бесчеловечного, «духовного» понимания христианства этой задачи не существует. Но вместо прозрения и отрицания грешного образа человека мы должны разглядеть в нем черты его небесного первообраза, Того, Кто «просвещает всякого человека, грядущего в мир».
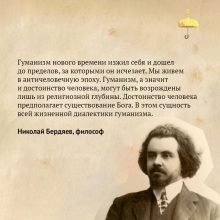
«Пути гуманизма» — поздняя статья Николая Бердяева, написанная уже после Второй мировой: опять же надо учитывать контекст. Здесь Бердяев прослеживает диалектику гуманизма: подлинный гуманизм есть религия Богочеловека, но средневековое христианство не давало раскрыться человеческим силам, на что ответом был антихристианский гуманизм, который в потере христианства оборачивается антигуманизмом. И вот подлинное утверждение достоинства, творчества, сил, свободы человека возможно теперь только на пути возвращения к христианству:
«В мире происходит острый процесс дегуманизации. Он наиболее обнаруживается в фашизме и национал-социализме, но охват его гораздо шире и распространяется на многие умственные течения нашей эпохи.
Нужно помнить, что процесс дегуманизации давно уже происходит в капиталистическом строе, хотя и в прикрытой форме. Капитализм с его страшной безличной властью денег раздавливает человека, превращает его в орудие не–человеческих целей, он раздавливает не только трудящиеся классы, но и классы господствующие, искажая в них образ человека.
Связанность и недостаточная раскрытость человеческого творчества в средневековом христианстве должны были быть преодолены. Но ренессансный гуманизм начал также утверждать самодостаточность человека и разрыв с вечной истиной христианства, и в этом была его неправда. Отсюда пошла вся трагедия новой истории, трагическая диалектика гуманизма, в которой самодостаточность человека переходит в отрицание человека, в антигуманизм. Произошел разрыв религиозного и антирелигиозного гуманизма.
На чем основан христианский гуманизм? Христианство учит, что человек не есть порождение природной необходимости, не есть явление круговорота космической жизни, есть творенье Божье и несет в себе образ и подобие Божье. Этим за человеком утверждается духовная независимость, и он в принципе ставится выше природного и социального мира. Христианство учит также, что Бог стал человеком и этим возвысил человеческую природу. И еще учит оно, что человеческая душа имеет бесконечную ценность и стоит больше, чем все царства мира. Но в истории христианства отношение к человеку было очень сложное и запутанное. Христианской верой пользовались и против человека.
Во вторую половину XIX века с большей остротой, чем в прежние века, было обнаружено трагическое начало человеческой жизни. Это обозначило внутренний кризис гуманизма, и старый оптимистический и рационалистический гуманизм был преодолен, но, правда, лишь в верхних культурных слоях. Это было связано главным образом с именами Достоевского, Ницше, Кирхегардта, узнанного позднее, лишь в XX веке, когда это оказалось соответствующим трагическому характеру эпохи. Достоевский уже смеялся над старым прекраснодушным, шиллеровским гуманизмом, над почитателями «высокого и прекрасного». Это означало выход из серединного гуманистического царства и переход к конечным вопросам. Достоевский раскрывает трагическую диалектику гуманизма, раздвоение на Богочеловечество и человекобожество.
Кризис человека и связанная с ним тема о гуманизме могут быть разрешены лишь на почве нового христианского гуманизма. Это не есть возврат к гуманизму Эразма и некоторых людей Ренессанса, сохранивших еще связь с христианством, это есть новое явление, предполагающее осмысливание из глубины христианства всего опыта новой истории. Ренессансная эпоха выходила из христианства средневекового, в котором не были ни поставлены, ни разрешены проблемы свободы и творчества человека. Ряд веков нового времени протекала гуманистическая история, все более отдалявшаяся от истоков христианства. Этого не остановила и Реформация, которая сама подверглась этому процессу. Сейчас происходит поворот, конец «новой истории» и начало истории более новой.
В чем особенность этой новой эпохи? Это процесс, в известном смысле обратный тому, который происходил в эпоху Ренессанса, обратный в отношении темы гуманизма. Гуманизм нового времени изжил себя и дошел до пределов, за которыми он исчезает. Мы живем в античеловечную эпоху. Гуманизм, а значит и достоинство человека, могут быть возрождены лишь из религиозной глубины.
Человек есть свободный дух, а не зависимое существо, порожденное исключительно природой и обществом. Только потому человек может овладеть природой и обществом, не быть их рабом. Достоинство человека предполагает существование Бога. В этом сущность всей жизненной диалектики гуманизма. Человек есть личность только в том случае, если он есть свободный дух, отображающий Высшее Бытие философски. Эта точка зрения должна быть названа персонализмом. Этот персонализм ни в коем случае не должно смешивать с индивидуализмом, который губит европейского человека. Это персонализм коммюнотарный и социальный.
Настоящий гуманизм ставит не только проблему человеческой личности, но и проблему общества, проблему общения людей, проблему «мы». Это предполагает новое сознание в христианстве, раскрытие христианской антропологии, которая не была еще достаточно раскрыта в истории».
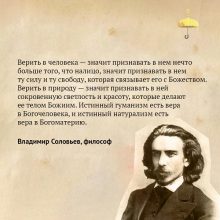
Философ Владимир Соловьев с его спекулятивно-систематическим даром прекрасно набрасывает внутреннюю структуру христианского гуманизма-материализма в «Трех речах о Достоевском»:
«С верой в сверхчеловеческое Добро, т. е. в Бога, возвращается и вера в человека, который тут уже является не в своем одиночестве, немощи и неволе, а как свободный участник божества и носитель силы Божией. Но, поверив действительно в сверхчеловеческое Добро, мы уже никак не можем допустить, чтобы его явление и действие связывалось исключительно с нашим субъективным состоянием, чтоб Божество в своем проявлении зависело только от личного действия человека, – мы непременно, сверх нашего личного религиозного отношения, должны признать положительное откровение Божества и во внешнем мире, должны признать объективную религию. С действительной и полной верой в Божество возвращается нам не только вера в человека, но и вера в природу.
Мы знаем природу и материю, отделенную от Бога и извращенную в себе, но мы верим в ее искупление и ее соединение с божеством, ее превращение в Богоматерию и посредником этого искупления и восстановления признаем истинного, совершенного человека, т. е. Богочеловека в Его свободной воле и действии. Верить в царство Божие – значит с верою в Бога соединять веру в человека и веру в природу. Все заблуждения ума, все ложные теории и все практические односторонности и злоупотребления происходили и происходят от разделения этих трех вер. Вся истина и все добро выходят из их внутреннего соединения.
Чрез такое пагубное разделение трех начал и трех вер прошло все свободное просвещение Европы. Здесь выступали мистики (квиэтисты и пиэтисты), стремившиеся потонуть в созерцании Божества, презиравшие человеческую свободу и отвращавшиеся от материальной природы. Здесь выступали, далее, гуманисты (рационалисты и идеалисты), поклонявшиеся человеческому началу, объявлявшие безусловную самозаконность и верховенство человеческого разума и мыслимой им идеи, видевшие в Боге только зародыш человека, а в природе – только его тень. Но эта тень слишком сильно давала чувствовать свою реальность, и вот, напоследок, за крушением идеализма, выступают на первый план современного просвещения натуралисты (реалисты и материалисты), которые, изгоняя из своего миросозерцания все следы духа и Божества, преклоняются перед мертвым механизмом природы. Все эти односторонние направления уличали друг друга во лжи и достаточно обличили свою несостоятельность. Ложные и бесплодные в своей розни, они находят и истину, и плодотворную силу в своем внутреннем соединении – в полноте христианской идеи.
Эта идея утверждает воплощение божественного начала в природной жизни чрез свободный подвиг человека, присоединяя к вере в Бога веру в Богочеловека и в Богоматерию (Богородицу). Это понял и это возвещал Достоевский. Более чем кто-либо из его современников он воспринял христианскую идею гармонически в ее тройственной полноте: он был и мистиком, и гуманистом, и натуралистом вместе. Обладая живым чувством внутренней связи со сверхчеловеческим и будучи в этом смысле мистиком, он в этом же чувстве находил свободу и силу человека; зная все человеческое зло, он верил во все человеческое добро и был, по общему признанию, истинным гуманистом. Но его вера в человека была свободна от всякого одностороннего идеализма или спиритуализма: он брал человека во всей его полноте и действительности; такой человек тесно связан с материальной природой — и Достоевский с глубокой любовью и нежностью обращался к природе, понимал и любил землю и все земное, верил в чистоту, святость и красоту материи. В таком материализме нет ничего ложного и греховного.
Как истинный гуманизм не есть преклонение перед человеческим злом ради того только, что оно человеческое, так и истинный натурализм не есть рабство извращенной природе потому только, что она натуральна. Гуманизм есть вера в человека, а верить в человеческое зло и немощи нечего — они явны, налицо; и в извращенную природу тоже верить нечего – она есть видимый и осязательный факт. Верить в человека — значит признавать в нем нечто больше того, что налицо, значит признавать в нем ту силу и ту свободу, которая связывает его с Божеством; и верить в природу – значит признавать в ней сокровенную светлость и красоту, которые делают ее телом Божиим. Истинный гуманизм есть вера в Богочеловека, и истинный натурализм есть вера в Богоматерию. Оправдание же этой веры, положительное откровение этих начал, действительность Богочеловека и Богоматерии даны нам в Христе и Церкви, которая есть живое тело Богочеловека».
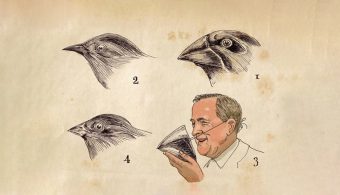
Из этих пяти текстов, очевидно, выстраивается цельная система: коль скоро христианство есть религия Воплощенного, Вочеловеченного Бога — Бога, воспринявшего всю человеческую природу, то из христианства с логической необходимостью вытекают гуманистические и материалистические следствия, что только подтверждается мистико-аскетическим опытом Православия, где с Богом соединяется весь человек. Как Бог воспринял человеческие душу и тело, так и весь человек (с душой и телом) соединяется с Ним: гуманизм и материализм. Но поскольку христианство есть религия Любви: Бог становится человеком («гуманизируется/материализуется») из любви к человеку, а соединение человека с Богом есть соединение в любви с Любовью, — то и вся человеческая жизнь должна быть выстроена по любви. «Гуманно», притом конкретно, действительно, «материально» — то есть «социалистически»: общение, общность людей должны быть выстроены по любви. Но коль скоро Христос спасает творение, впавшее в грех, то все то же самое можно было сказать и на уровне творения: Бог творит материальный мир — значит материя блага; Бог творит человека — значит человек благ; Бог творит из любви и для любви — значит социальность (межчеловеческие связи) блага. Последовательно продуманное христианство дает триаду гуманизма-материализма-социализма; в обратном случае получаем фашизоидный или платонический (в любом случае — языческий) антигуманизм.




