
Снятие с креста Иисуса Христа, приговоренного к смерти и казненного властью и силой Римской империи по прошению Синедриона.
Философствование в своей подлинности — не «кабинетная писанина» и не «академическая болтовня», а подрывное, политическое опасное — смертельно опасное! — занятие. В истоке философии — задающем ей эталон, парадигму — казнь Сократа: полития приговаривает философа к смерти; образцовый сократический диалог — «Федон» ученика Сократа Платона — беседа Сократа в тюрьме перед казнью.
Истина травматична — Ей нет места в здешнем (политическом) бытии: артикуляция Истины приносит боль. «Я верю только написанному кровью» — точнейшая политико-философская формула Паскаля: если высказывание не травматично (не написано кровью), значит, оно — не актуализация Истины. Истина на Кресте; воплощенную Истину распяли. Место ищущего истины (философа), самой истины (Бога) согласно политии — казнь.
Три христианских неоплатоника — Лосев, Карсавин, Булгаков — «пловцы в безмерной стремнине» политического кошмара XX века — продолжатели дела «Федона», последователи Распятой Истины — оставили нам ряд сократических диалогов: в тюремных камерах, в концлагерях, на чудовищных тоталитарных стройках, в беженстве — в местах Истины, поскольку в этих местах Истину вытесняют, угнетают, отбрасывают, изгоняют, запируют, истязают, казнят.

Алексей Лосев арестован в 1930 году; приговорен к 10 годам заключения; отбывал заключение на строительстве Беломорканала; в 1933 году освобожден.
Арестованный и отправленный на строительство Беломорканала Алексей Лосев сразу же по выходе из лагеря в октябре 1933 года пишет ряд интереснейших текстов, среди них — два диалога: «Из разговоров на Беломорстрое» и «Встреча».
Диалог «Из разговоров на Беломорстрое». Несколько строителей Беломорканала обсуждают проблему техники. Техника — одна из центральных проблем современной философии. При этом через технику собеседники обсуждают современность (капитализм, социализм), советскую власть, марксизм. Здесь дается полный круг возможных взглядов на технику от отрицательных до положительных, от религиозных до атеистических. В конце диалога в некоем инфернально-карнавальном духе единственный среди собравшихся большевик всех примиряет. Надо вообще учитывать, что диалог написан в ироническом духе. «Из разговоров на Беломорстрое» — важнейшее (при том, повторим — многосмысленное, ироническое, карнавальное) свидетельство отношения великого христианского мыслителя к марксизму и к истории вообще. Позиция Лосева — диалектическая и религиозная. История — часть бытия, тем самым ее (а следовательно, и СССР) бессмысленно отрицать, история есть кипение бытия, кипение истины. Так или иначе, текст — интереснейший: философствует здесь — з/к Лосев; вот, скажем, иронический анализ от строителя Канала:
«Вы продолжаете думать по старым либерально-интеллигентским методам, что большевик — это самый примитивный, самый схематический и элементарный человек. Большевик — это самый сложный человек современности.
Если вы хотите найти сейчас в мире место, где еще не заглох идеализм, где существует подлинная духовная жизнь с ее творчеством, с ее падениями и с ее взлетами, то это — СССР. Культурный мир погряз в мещанстве, в материальных интересах, в заботах об удобствах жизни. Ни одна страна не переживает тех конфликтов и тех свершений, которые творятся у нас. Америка слишком материалистична, чтобы допустить у себя роскошь коммунизма, западный человек слишком любит теплое, покойное местечко, чтобы решиться поднять на своих хилых плечах всю тяжесть нового переустройства жизни. Под влиянием пережитого и переживаемого каждый мещанин у нас мудрее Канта и Гегеля; и никакому западному профессору философии и не снилась та глубина проблем, которая ежедневно, ежеминутно открыта перед взором нашего последнего простолюдина. Нужно быть слишком искренним романтиком, слишком самоотверженным человеком, чтобы жить у нас в унисон с эпохой. У нас разрушены наши старые гнезда, и бытовые, и идеологические; каждый из нас плывет над бушующей бездной истории, могущий каждую секунду погибнуть и каждую секунду быть вознесенным к самому кормилу власти. Это дает нам знание, которое неведомо никаким мещанам мира, какие бы кафедры они не занимали на Западе. Мы перенесли голод, холод, кровавые гражданские войны и несем еще и теперь тяготу повседневной борьбы за торжество нашей идеи. Только мы — не мещане, и только у нас — настоящая духовная жизнь, ибо духовная жизнь есть не рассуждение, а жертва, жертва всем ради идеи, СССР — столп и утверждение мирового идеализма».

Диалог «Встреча». И снова три строителя (заключенных) Беломорканала беседуют — на этот раз обсуждают музыку — ее судьбы при социализме. Потом главный герой, философ музыки (альтер эго автора), случайно встречается с когда-то известной исполнительницей, а ныне — тоже строительницей Канала. С ней герой обсуждает ту же музыку, а также религию, любовь, коммунизм и прочее (вы видите схожесть и тематики и самих сюжетов в этих диалогах; их можно — пожалуй, нужно — читать как единое произведение).
Текст прекрасный, причудливый, но нельзя с ним работать «напрямую»: это явно ироничный, карнавально-инфернальный, издевательский текст. Герои все — как бы перекованные «гнилые интеллигенты», Канал из них сделал якобы ярых большевиков. Но разговоры их — с помощью «марксистской диалектики» — сводятся к тому, что при коммунизме не нужны ни музыка, ни демократия, ни личность, ни любовь. То есть текст иронически яро и ярко антисоветский. Тем более чем все кончается? — герой и героиня, устав играть роль большевиков и энтузиастов строительства Канала, посылают коммунизм к черту и занимаются «мелкобуржуазной любовью», за чем их и застают чекисты; герои волею «органов» расстаются.
То есть текст антисоветский, антимарксистский? — не так просто. Текст издевательский — но не в одном, а сразу в нескольких смыслах. Лосев и до ареста как почитатель феодализма («черносотенец», как он себя аттестует в этом диалоге) был ненавистником капитализма; как диалектик (не в марксистском смысле, даже не в гегелевском, а в русле позднеантичных авторов) всегда считал, что надо мыслить всецело, то есть, в частности, учитывать категорию социального, учитывать историческое становление; и поэтому его переход к марксизму — не разрыв с первой половиной творчества, а органическое его развитие. Несмотря на всю иронию «Встречи», ее идеи можно встретить в творчестве Лосева как и до ареста, так и после освобождения (вот что редко учитывают: в творчестве Лосева нет разрыва между ранним и поздним периодами — есть органическое перетекание-развитие из одного в другое). Поэтому, не забывая ироничности «Встречи», нельзя ее читать просто как издевательство над марксизмом. Здесь скорее мы видим работу мысли философа в горниле исторического трагизма: тот, кто призывал не забывать о категории социального в философии, социальной бурей был выброшен на Беломорканал. Короче, вот идеи «Встречи», которые можно встретить и в других текстах Лосева:
1. Дохристианская эпоха — личности нет, есть тотальность Космоса; рабовладение, язычество.
2. Христианство провозглашает идею Неотмирной Абсолютной Личности; освобождение от Космоса, торжество принципа личности, но только на словах (в догматике, в культе); феодализм.
3. Капитализм есть переход объективной истины христианства в субъективность (и одновременно из идеальности в материальность); вместо Абсолютной Личности — абсолютизация эмпирической личности; истина более не объективна, как в христианстве, теперь — атеизм, материализм, субъективизм, антропоцентризм; в бытии истины и ценности нет, они в глубине человека; но тем самым, что было в феодализме «на словах», теперь — «на деле», что раньше провозглашалось (торжество принципа личности), теперь реализуется (конкретные человеческие личности освобождаются). Христианство — тезис, капитализм — антитезис.
4. А синтез? — социализм. Если в тезисе христианства была объективная истина личности (Бог), то в антитезисе капитализма она субъективируется, приходя в реальность, но теряя объективность (бессмысленный космос буржуазии — материализм при господстве человека — романтизм, гуманизм, демократия, наука). Социализм же — как антитезис капитализма, то есть своего рода как феодализм на новом витке, новый феодализм, сохранивший достижения капитализма — снова утвердит объективность, но не «на словах», как в феодализме, а «на деле»: в объективности производства, в объективности коллектива (то есть объективность будет не провозглашаться, а будет реализована). В феодализме христианство провозглашается, в капитализме — реализуется, в социализме обретает завершенность (именно так Лосев не говорит, но «Встреча» и ряд других текстов позволяет его так понять).
5. При чем здесь музыка? — музыка возможна только при капитализме (Бах, Бетховен, Моцарт и пр.). Капитализм — переход идеи Абсолютной Личности к идее абсолютизации человеческой личности; музыка — это переживание Божества внутри человеческого субъекта; в феодализме субъект склоняется перед Абсолютом, «музыка» там только — элемент культа, поклонения. При капитализме — субъект сам абсолютизируется, изнутри себя переживает Божество, и это переживание — музыка. Но если в феодализме Абсолют объективен, то при капитализме — он субъективен. Музыка — фикция, иллюзия Божества, на самом деле «Бога нет», человек один в бессмысленной вселенной, музыкальные экстазы только внутри его души, никак не связаны с объективным бытием (ибо объективное бытие при капитализме — бессмысленный холодный космос, не Абсолют, не Бог Живой). В силу всего этого при социализме музыки (в понимании а-ля «Бетховен») тоже не будет, ибо субъективизм будет преодолен. В такой же логике Лосев подвергает анализу все реалии капиталистической культуры, противопоставляя ее субъективизму — старый объективизм феодализма и новый объективизм социализма.
6. Плоха та религия, которая не сильна в социальном измерении; идея должна задействовать все категории, включая категорию социального; религия должна побеждать в реальности — то есть в обществе. Значит, Православие — пустышка? Нет, говорит (черносотенец, но и, между прочим, «русофоб») Лосев: именно тысячелетняя история Православия в России позволила победить Октябрю и начаться строительству социализма: ибо старый объективизм Православия совпадает с новым объективизмом большевизма. Так-то издеваясь — но сразу в несколько смыслах, вот что надо иметь в виду — пишет строитель Беломорканала и православный монах Алексей Лосев.

Лев Карсавин выслан из России в 1922 году; в 1940 году Литва, где находился философ, входит в состав СССР; в 1949 году арестован, в 1950 году приговорен к 10 годам заключения; умер в 1952 году от туберкулеза в спецлагере для инвалидов в поселке Абезь Коми АССР.
«О сомнении, науке и вере (три беседы)» (1925) — небольшая работа Льва Карсавина, выдающегося христианского мыслителя первой половины XX в. (погибшего в советском лагере), написанная в жанре диалога. В советской тюрьме три арестанта полемизируют о вере и атеизме: комсомолец, учитель и бывший помещик. Начинаются беседы с тогдашних актуальных тем: марксистский материализм, «религия — опиум для народа» — в общем, с социальных проблем; затем беседы возлетают к метафизическим и теологическим высотам.

Вот что здесь трагически-иронично (Карсавин обладал чудесным ироническим умом и стилем; вообще ирония — фундаментальная черта философии, свой исток, вспомним, берущей у ироника, насмешника, силена, сатира Сократа, приговоренного к смерти: арестованный, казненный вакхант — архетипическая фигура философии, и поэтому ирония Лосева, Карсавина совсем не случайна): свой тюремный диалог Карсавин пишет не обладая опытом заключенного — пишет в беженстве. Но вот страна его вынужденной эмиграции — Литва — спустя 18 лет после высылки философа из СССР входит в состав СССР: спустя несколько лет Карсавина арестовывают, он заканчивает свою жизнь в концлагере — где, однако, смог написать несколько текстов, в частности — эссе «Дух и тело» и примыкающую к нему «Беседу автора с позитивистом и скептиком по поводу “Духа и тела”» — пишет весной 1952 года — а летом того года мыслитель умирает. Тут находим краткий очерк метафизики и теологии Карсавина — в применении к проблеме дух/тело. Заметим: «Федон» посвящен как раз жизни и смерти, бессмертию души: и тут Карсавин выступает сразу в двух качествах: арестованного Сократа и пишущего сократические диалоги Платона.

Священник Сергий Булгаков выслан из России в 1922 году; умирает в оккупированном нацистами Париже в 1944 году.
Диалоги (пост)марксиста, экономиста, социолога, философа, теолога протоиерея Сергея Булгакова «На пиру богов» (1918) и «У стен Херсониса» (1922) писались еще собственно в России, по свежим впечатлениям от бойни Первой мировой и Великой Русской революции. Они крайне показательны.
«Современные диалоги» «На пиру богов»: острый стыд за патриотически-милитаристский угар начала Войны, острый стыд за все многочисленные русско-мессианские, «православно»-патриотические, милитаристски-
«Православная Россия» рухнула: вот факт, требующий уже не истерики, но осмысления — политического, философского, теологического. Пало «православное царство», пал «Третий Рим» — пал в ходе Войны. Революция, большевизм — есть лишь следствие этого, и вся большевицкая диктатура — продолжение торжествующего в мире милитаризма. Россия в бессмысленной войне надорвалась; большевизм есть ее военный надрыв. Так — в ближайшем рассмотрении, но нужно смотреть и глубже.
Жесточайшая критика «русского православия», вообще русской истории, и в особенности мифологии-идеологии над ней надстроенной. Третий Рим рухнул, «страна-цивилизация» упала в пропасть, «народ-богоносец» создал атеистическую диктатуру, невиданную в истории: практическое разоблачение славянофильской идеологии. Кризис православия, осознание его исторической, культурной слабости — и больше: его националистического греха: «православность» — вселенское христианство — было подменено «русскостью», «Церковь» — «Россией». Церковь не смогла по-настоящему, глубинно христианизировать русский народ, его культуру, общество, государство. Но великий христианский народ — каким все-таки является русский народ — не может находиться в таком положении: и исторически-культурную слабость своей Церкви он компенсировал «социалистической интеллигенцией»: ее «интернационализм» — есть компенсация отсутствующей христианской вселенскости, «кафоличности»; ее «социализм» — есть компенсация отсутствующей христианской правды, исторической силы христианства; ее собственно «интеллигентность» — есть компенсация отсутствующей христианской культуры. «Социалистическая интеллигенция» есть как бы негатив отсутствующего позитива православия. «Теократия» («Третий Рим», «православное царство») не осуществилась — и потому она негативно «осуществилась» в пролетарской диктатуре, советской республике. «Теократия» — христианская культура, христианское общество, христианская политика — главная тема диалогов.
«Катехон взят из среды». «Катехон» — как один из центральных концептов политической теологии: теперь это — после работ Карла Шмитта — общее место; но вот находим это еще у Булгакова. Православное самодержавие пало, катехон взят от среды: прошла огромная эпоха в истории Церкви (от Константина Великого до Николая II). Идея «христианской империи» уходит с исторической сцены. Но уходит ли сама тема «теократии»? — тут позиция Булгакова мерцает: «взятие катехона из среды» — апокалиптическое знамение, знак наступления предантихристовой эпохи; или: «теократия» как «царство» — исторически проиграло, но не значит, что проиграла сама теократическая задача: напротив, открывается огромная новая эпоха христианства — эпоха созидания теократии в какой-то иной, новой форме.
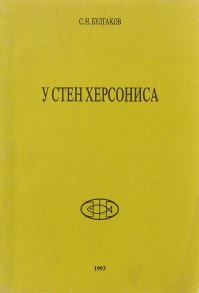
Эта суперпозиция апокалиптический пессимизм / исторический оптимизм, намеченная в «На пиру богов», в диалогах «У стен Херсониса» сменяется откатом от Третьего Рима к Первому: к «утопии» обращения России в католичество, воссоединения христианского Востока и Запада. Этот «католический эпизод» Булгаков быстро преодолел, но сама тематика и сейчас весьма актуальна: во-первых, православие — это все-таки вселенское, кафолическое христианство или «русская вера» (и другие «национальные» веры)? — и если все-таки «вселенское и кафолическое» то где, как и в чем это, собственно, видно? Как явлена всемирность, универсальность православия? Критика «православного» русского национализма и любого другого национализма как прежде всего чего-то такого, что извращает христианство, блокирует его, подменяет. Во-вторых, более конкретный вопрос — вот есть Русская Церковь: какие есть богословские основания ее состава, каковы богословские причины не-отделения от нее? Булгаков прямо и буквально поднимает вопрос украинской автокефалии: какие есть причины ее отвержения — богословские, а не а-ля «Св. Русь» и прочие мифы национализма? — да просто-напросто никаких, «Московский патриархат» — чисто административное учреждение, обоснованное националистически-
Тема «взятия катехона из среды» смежна с темой «всеобщего беженства», где Булгаков предугадывает другую важнейшую тему современной мысли (см. темы беженства у Арендт, у Агамбена, например). Рухнула не только православная империя; вообще система государств в кризисе: мир глобализован, и глобализован не только экономически, но и как «мировая война»: «империализм как высшая стадия капитализма», говоря в терминах другого русского мыслителя той же эпохи. Между прочим, Булгаков (в 1918 году) прямо и четко говорит (т. е. один из героев его диалогов), что мир вошел в острую борьбу за глобальную гегемонию между США и их союзниками с одной стороны — и Германией/Японией с другой (т. е. в финале Первой мировой Булгаков угадывает Вторую): национальные государства, пишет (пост)марксист Булгаков, созданы национальным капитализмами, которые мир перерос: капитал интернационализировался и тем обрек на умирание национальные государства и инициирует борьбу за глобальную гегемонию; но нельзя упускать из виду, пишет Булгаков, и «перспективу всемирного большевизма». Фигура этого глобального, фундаментального кризиса — «беженец», являющий собой крушение государств, их границ, все мировые противоречия, всемирность, глобальность; «беженство» есть реалия, где уже практически государства как бы не существуют. Значимо, что альтер эго Булгакова в диалогах — «Беженец»: философствует и богословствует тут именно беженец, и это важная черта.
Надо сказать, что диалоги эти интересны скорее сборкой тем, своими вопросами, их общим рисунком — но не решениями, не выводами. Диалоги, вообще говоря, очень ироничные: первую половину их составляют раскаяние и насмешки о том, какие глупости говорили герои до Войны и Революции, и теперь-де они подобных глупостей говорить не будут; но, как мы теперь знаем, их рассуждения о России после Войны и Революции оказались тоже глупостями: поучительное чтение в этом смысле. Готовность говорить с пафосом о текущей «новостной повестке» — болезненная слабость, вредное искушение, причина многих глупостей, в конечном итоге — гадость и грех, некрофилия: ибо что есть «новостная повестка», как не кривоотзвуки, медийные перетолки чужих страданий, ужасов, отчаяний, пыток, убийств, умираний, смертей.




