
Сергей Аверинцев жил «верховенством Бога», которое он утверждал и в частной жизни, и в жизни общественной, для которой частная служила питательной почвой. В свете этого написаны его труды. Крещение Руси, положившее начало пути русской культуры, также стало предметом его размышлений.
Каким бы ни было богатство автохтонных традиций восточно-славянского язычества, подчеркиваемое такими исследователями, как академик Б. А. Рыбаков, только с принятием христианства русская культура через контакт с Византией преодолела локальную ограниченность и приобрела универсальные измерения. Она соприкоснулась с теми библейскими и эллинистическими истоками, которые являются общими для европейской семьи культур (и до известной степени роднят ее с культурами исламского круга). Она осознала себя самое и свое место в ряду, выходящем далеко за пределы житейской эмпирии; она стала культурой в полном значении этого слова.
Предметом размышлений уже самых ранних русских книжников становится всемирная перспектива и связь времен. Трудно не удивиться тому, как быстро это произошло. Самый яркий памятник древнейшей русской «историософии» — «Слово о законе и благодати» митрополита Илариона — отделен от крещения Pyси примерно полустолетием. Совсем недавно практиковались обычаи человеческих жертвоприношений, ритуального «соумирания»; совсем недавно князь Владимир предпринимал последнюю попытку поднять язычество в ранг государственной религии, ставя шесть кумиров у теремного двора, — и уже сознание стало совсем иным. Горизонты на столько расширились, что митрополит Иларион словно охватывает взглядом христианский мир как целое: «Вера бо благодатнаа по всей земле простреся и до наше го языка рускааго доиде…» История перестает сводиться к эпическому, почти природному ритму войн, побед, катастроф, она предстает как явление смысла, по своей сложности требующего интерпретации, как система дальнодействующих связей, в которой актуальны Авраам и царь Давид, греческие мудрецы и Александр Македонский, персонажи Нового Завета и император Константин.
Становление молодой культуры в духе христианско-эллинистического универсализма началось с перевода греческих книг «на словеньское письмо», о котором говорит «Повесть временных лет». Она связывает ранний расцвет этой переводческой деятельности с княжением Ярослава Мудрого, строителя киевского собора Св. Софии, т. е. с эпохой того же митрополита Илариона. Похвала Ярославу как продолжателю дела Владимира переходит в похвалу книжному делу, пришедшему от греков: «Отец бо его Володимер землю распахал и умягчил, то есть просветил крещением; он же насеял книжными словесами сердца верующих людей, а мы пожинаем, приемля учение книжное… Мудрость бо обретаем и воздержание от словес книжных: ведь это реки, напояющие вселенную, это источники мудрости; у книг неизмеримая глубина, ими утешаемся мы в печали, они — узда воздержания» («Повесть временных лет»).
Празднующая ныне свое тысячелетие русская книжная культура изначально сформирована интернациональным литературным движением, шедшим из Византии, охватывавшим южное славянство и Русь, впоследствии возродившимся и достигшим новой силы к XIV веку; а движение это (ставшее предметом обстоятельного анализа в работах академика Д. С. Лихачева) может рассматриваться как поздний, но аутентичный плод эллинистической традиции. Вообще говоря, греческая литература, пришедшая к самоосознанию и сознательной работе над словом в феномене риторики, есть исток и парадигма для всего, что понималось как собственно «художественное» и собственно «литературное» в художественных литературах всей Европы (вспомним классический труд Э. Р. Курциуса «Европейская литература и латинское Средневековье»). В этом для нас, русских, — наше коренное единство с культурами Запада. Однако у греческого риторического искусства два уровня бытия. Один уровень — назовем его «эксотерическим» — сводится к «фигурам мысли» и «фигурам речи», к интеллектуально усвояемым техническим схемам, которые можно переносить из одного языка в другой таким образом, что с воспринявшим его языком в недрах его языковой природы ничего особенного не происходит. Второй, более «эсотерический», уровень непременно в той или иной степени связан с физиономией языка как такового. И здесь пути балкано-русского славянства и романо-германского Запада различны. Православные книжники обращались к примеру греческой украшенной речи непосредственно, минуя латинское посредничество. Они перенимали не только «фигуры мысли» и «фигуры речи».
Начнем с наиболее очевидного, осязаемого, лежащего на поверхности: они исключительно широко перенимали словообразовательные модели — хитроумие характерных для греческого языка двукорневых и многокорневых образований. Таковы ключевые слова традиционной русской этики и эстетики — все эти «цело-мудрие» (греч. σω-φροσύνη), «благо-образие» (греч. εὐ-σχημοσύνη), «благо-лепие» (греч. εὐ-πρέπεια). Каждый, кто читал в подлиннике греческих и византийских поэтов, знает, как это важно для приобщения к глубинному, «эсотерическому» уровню греческой литературной традиции. Из века в век, из тысячелетия в тысячелетие некоторые специфические возможности торжественности, но и остроумия находили реализацию именно в таких словах. Без них невозможна пышность трагедий Эсхила — все эти «гиппалектрионы» и «трагелафы» (греч. ἱππαλεκτρυών — баснословное животное «конепетух»; τραγέλαφος — «козлоолень»), в свое время любовно спародированные Аристофаном. Но без них невозможна и византийская нарядность церковных гимнов. Красота целой грозди слов, сцепляющихся в единое слово, — очень греческая вещь; и она-то была принята к сердцу русским народом, и притом на века.

Призовем в свидетели не многоученого любителя славянизмов вроде поэта-символиста Вячеслава Иванова и даже не специалиста по тонкостям церковного быта и коллекционера языковых раритетов, каким был замечательный русский прозаик Николай Лесков. Мы не будем обращаться к консервативным романтикам славянофильского или неославянофильского толка. Нет, нашим свидетелем будет трезвейший из реалистов: Антон Павлович Чехов.
У Чехова есть зарисовка картины нравов, которая называется «Святою ночью» и опубликована в 1886 году, т. е. примерно столетие назад. Мы слышим там голос совсем простого человека — послушника Иеронима, который восторженно выражает свою привязанность к словам сложным, на греческий лад тяжеловесно-торжественным словечкам из обихода православной гимнографии:
«Древо светлоплодовитое… Древо благосеннолиственное… Найдет же такие слова! Даст же Господь такую способность! Для краткости много слов и мыслей пригонит в одно слово, и как это у него все выходит плавно и обстоятельно! „Светоподательна светильника сущим…“, сказано в акафисте к Иисусу Сладчайшему.
Светоподательна! Слова такого нет ни в разговоре, ни в книгах, а ведь придумал же его, нашел в уме своем!.. И всякое восклицание нужно там составить, чтоб оно было гладенько и для уха вольготней».
Детскими устами простосердечного Иеронима говорит не только почтение к религиозной святыне, но и не- поддельное, естественное увлечение игрой со словами, той игрой, полной торжественности и самого серьезно- го веселья, которое по-русски называется «витийство». Слово это, по существу, в полноте своих коннотаций и эмоциональных обертонов непереводимо: оно не совпадает до конца с понятиями «риторики» или «элоквенции», потому что его смысловые оттенки слишком связаны со специфической физиогномией церковнославянской и греко-византийской стилистики. Без этого элемента «витийства» немыслима вся традиционная русская культура речи, прежде всего, конечно, в допетровские времена, но и много позже. Даже великий Пушкин, так много сделавший вслед за Карамзиным и карамзинистами для модернизации русского языка, т. е. для его эмансипации от опеки церковнославянского, — даже он отдал дань «витийству» хотя бы в своих переложениях из «Песни песней», где он выступает поистине как старший брат смиренного Иеронима.
Вернемся, однако, к Иерониму. Многокорневые словообразования, которыми он так восторгается, все без исключения имеют прообраз в греческом. «Древо светлоплодовитое» — это δένδρον ἀγλαόκαρπον, «древо благо сеннолиственное» — это ξύλον εὐσκιόφυλλον, и оба эпитета заимствованы из знаменитого ранневизантийского гимна, который по-гречески называется ὕμνος ἀκάθιστος, а по-русски — «Акафист Пресвятой Богородице». «Светоподательна светильника сущим [во тьме]» — это взято из позднейшего византийского гимна, который называется по-русски «Акафист Иисусу Сладчайшему» и представляет собой легкую переработку словесного материала все того же первого, богородичного акафиста.
Уже в нашем столетии не филолог, но внимательный к филологии русский поэт так сформулировал свое восприятие русской речи:
«Русский язык — язык эллинистический. По целому ряду исторических условий живые силы эллинской культуры, уступив Запад латинским влияниям и ненадолго загощиваясь в бездетной Византии, устремились в лоно русской речи, сообщив ей самобытную тайну эллинистического мировоззрения, тайну свободного воплощения, и поэтому русский язык стал именно звучащей и говорящей плотью».
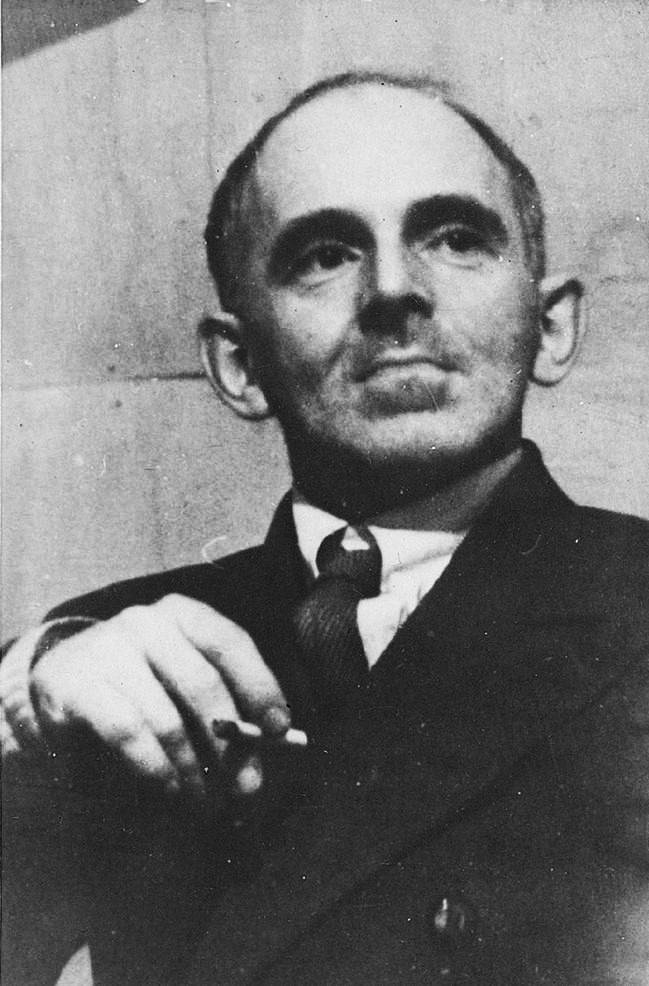
Это слова О. Мандельштама, чье имя достаточно известно и в рекомендациях не нуждается. Он же сказал: «Эллинистическую природу русского языка можно отождествлять с его бытийственностью». Как кажется, последнее особенно верно. Из греческого наследия русские ученики восприняли веру в вещественность, субстанциальность слова, которое не только verbum, не только ῥῆμα, но и λόγος. Слово здесь не просто звук и знак, чисто «семиотическая» реальность, но драгоценная и сакральная субстанция. Одни и те же фигуры одной и той же риторики имеют различную природу в русском «витийстве» и в западноевропейском «эвфуизме»; и различие это в конечном счете обусловлено разницей конфессионально-культурного, конфессионально-психологического контекста, давшего «витийству» такую меру серьезности, в которой было отказано цивилизованной игре эвфуизма, но также и спецификой славянско-русского слова, воспитанного не латинскими, а греческими образцами.
По-своему грандиозная утопия русского футуриста XX века Велимира Хлебникова, силившегося вернуть русскую речь к чистому язычеству и «скифству», как бы смыть с русской речи печать крещения, — утопия эта состоит в разладе с историей, ибо игнорирует плодотворную доверчивость, с которой русская самобытная речевая стихия пошла навстречу эллинистическому красноречию, чтобы уже навсегда слиться с ним в нерасторжимое целое.

Это слияние — константа русской литературной культуры. Оно живо и после Петра — в классическом витийстве, праздничном у Державина, медитативном у Тютчева. Оно живо и в нашем столетии — отнюдь не только в сознательных реставраторских опытах символиста Вячеслава Иванова или, скажем, крестьянского поэта Николая Клюева. Нет, возьмем крайний случай — такого бунтаря против всех традиций, как Владимир Маяковский: и его поэзия непредставима без тяжеловесной энергии сложносоставных словообразований («двухметроворостый»), в конечном счете ориентированных на греко-славянские модели. Его практика никак не подтверждает его полушутливого заявления (в автобиографии «Я сам») о тотальной нелюбви к славянизмам. О литургических интонациях в его лирике нет надобности что-нибудь говорить после Пастернака.
«Маяковскому… куски церковных распевов и чтений дороги в их буквальности, как отрывки живого быта… Эти залежи древнего творчества подсказывали Маяковскому пародическое построение его поэм», — отмечено в позднем мемуарном труде «Люди и положения».
Этот крайний случай показывает, что долговременые последствия события, произошедшего тысячу лет тому назад, отнюдь не ограничены в своем действии той частью новой русской поэзии, которая прямо вдохновлялась православными темами. Эти последствия поистине универсальны.
Совсем особая тема — отношение русской традиции к иконе. Замечательно, что в XVI веке, т. е. в классическую пору конфессиональных конфликтов, иезуит Антонио Поссевино, безуспешно пытавшийся обратить Иоанна Грозного в католицизм и сохранивший от своей неудачи некоторое раздражение против всего русского, именно об этой стороне русской жизни отзывался с неизменной похвалой, отмечая «скромность и строгость» искусства иконописцев, столь контрастировавшие с практикой Ренессанса и маньеризма, и благоговение почитателей икон. Не это ли свойство нравственной серьезности перед лицом красоты — разумеется, в совсем иных мировоззренческих контекстах — сочувственные иностранные ценители неоднократно отмечали как свойство русской литературы XIX века? Говорил же Томас Манн о «святой русской литературе»; конечно, это метафора, но не простая метафора.
Уже тысячу лет назад, если верить рассказу летописца, предки наши при выборе веры оказали доверие красоте как свидетельству об истине. Как кажется, ни в одной из разнообразных легенд о христианизации народов Европы нет ничего похожего на знаменитый эпизод «испытания вер». Мы слишком хорошо помним рассказ «Повести временных лет», слишком к нему привыкли, чтобы сохранить умение ему удивиться. С князем Владимиром уже беседовали и мусульмане, и католики, и хазарские иудаисты. Перед ним уже прозвучала проповедь греческого «философа», вместившая в себя библейскую историю и краткий катехизис в придачу. Казалось бы, этого достаточно: разве в Послании апостола Павла к римлянам не сказано, что вера — от слышания (10:17)? Но здесь не проповедь, не доктрина, не катехизация решают дело. Необходимо не только слышать, но и увидеть. Посланцы князя должны своими глазами посмотреть на зримую реальность каждой «веры», предстающую в обряде. Ни молитвенные телодвижения мусульман, ни латинский обряд не доставили им, как известно, эстетического удовлетворения. Но в Константинополе патриарх показал им наконец «красоту церковную», и они рассказывают Владимиру: «Не знаем, на небе ли были мы или на земле, ибо нет на земле такого вида и такой красоты, и мы не знаем, как рассказать об этом; только знаем, что там Бог с человеками пребывает, и богослужение их лучше, чем во всех иных странах. Мы же не можем забыть красоты той». Слово «красота» повторяется вновь и вновь, и переживание красоты служит решающим теологическим аргументом в пользу реальности присутствия Неба на земле: «Там Бог с человеками пребывает».

Нас сейчас не может интересовать историческая критика этого повествования. Какие бы исторические факты ни стояли за ним, в нем выражено некое понимание вещей, которое само по себе исторический факт. Даже если образ мыслей князя Владимира был не таким, каким был образ мыслей летописца. Даже если весь рассказ вымышлен, у вымысла есть смысл, и смысл этот неожиданно близок к тому, что в нашем столетии было сформулировано русским мыслителем Павлом Флоренским, который писал, имея в виду самую прославленную из русских икон — «Троицу» Андрея Рублева:
Из всех философских доказательств бытия Божия наиболее убедительно звучит именно то, о котором даже не упоминается в учебниках; примерно оно может быть построено умозаключением: «Есть „Троица“ Рублева, следовательно, есть Бог».
Конечно, между древним рассказом и фразой из философского рассуждения много несходства. Летописец простодушен, философ — нет: он высказывает изысканный парадокс и, конечно, сознает это. Сходства нет ни в чем, кроме простейшего логического смысла: высокая красота — критерий истины, и притом наиболее важной из истин.
В те века, когда на Западе энергично развивалась схоластика, на Руси философская работа ума осуществляла себя в пластических формах иконы. Разумеется, искусство готики также пронизано умозрением; но оно предполагает существование схоластики рядом с собой и функционально с ней размежевано. Оно стремится дать иллюстрацию — в очень высоком смысле слова, в том смысле, в котором заключительная строка «Божественной комедии» Данте: «l’amor che move il sole е l’altre stelle» («любовь, которая движет солнце и другие звезды») — является популяризацией космологического тезиса Аристотеля — Боэция. Но древнерусскому искусству такая мера иллюстративности противопоказана, как это отчетливо видно из истории распада стиля в XVI–XVII веках. В общем же готическое искусство берет себе «аффективную» сторону души, отдавая схоластике «интеллектуальную». Высшие достижения искусства невозможно сравнивать между собой по принципу «что лучше»: «Троица» Рублева не «лучше» реймской статуи Девы, потому что лучше этой статуи не может быть ничего; и обратно, потому что ничего не может быть лучше «Троицы» Рублева. Но духовность этих двух одухотвореннейших шедевров различна.
Реймская Дева обращается к эмоциям и воображению, и это потому, что рядом с ней есть схоластика, которая обращается к интеллекту. Области размежеваны: чувство — это одно, познание — это другое. Поэтому духовность готической статуи вся пропитана эмоциональностью — благородным рыцарским восторгом перед чистым обаянием женственности. Готический мастер может себе это позволить, потому что с него снято бремя обязанности доказывать духовные истины — для доказательств существуют силлогизмы докторов. Иное дело — русский мастер: он хочет не внушать, не трогать, не воздействовать на эмоции, а показывать самое истину, непреложно о ней свидетельствовать. Этот долг принуждает его к величайшей сдержанности: вместо энтузиазма, вместо готического порыва («раптус») требуется безмолвие («исихия»).

Благоговение перед иконой унаследовано Русью от Византии; но Русь сильно возвысила иконописца. Приписывая иконе святость, Византия не ожидала от иконописца святости. Во всей византийской агиографии нет таких личных образов иконописцев, как легендарный Алипий Печерский и вполне осязаемый для нашей истории искусства Андрей Рублев. Последний сопоставим разве что со своим итальянским современником фра Джованни да Фьезоле, которого мы привыкли называть Беато Анджелико. Но и здесь есть принципиальная разница. Чистота души фра Джованни, каким его изображает Джорджо Вазари, — индивидуально-биографический момент, характеристика художника, но не художества. Напротив, праведность Андрея Рублева, как ее понимает русская традиция, зафиксированная, например, у знаменитого церковного деятеля и писателя XV–XVI веков Иосифа Волоцкого, совершенно неотделима от сверхличной святости иконописания как такового.
Чтобы красоте можно было поверить, она должна быть особой красотой. Потворство чувственности, хотя бы «сублимированной», и культ самоцельного аристизма исключены. Именно потому, что от надежности, доброкачественности красоты зависит чрезвычайно много, к ней предъявляются очень строгие требования. У странника Макара Ивановича, человека из народа, подслушал герой «Подростка» Достоевского глубоко уязвившее его душу старинное слово «благообразие» (греч. εὐσχημοσύνη), выражающее идею красоты как святости и святости как красоты. Красота тесно связана в русской народной психологии с трудным усилием самоотречения. Достаточно вспомнить фольклорные песни о царевиче Иоасафе, уходящем, подобно индийскому Шакьямуни, от роскоши царского дворца в суровую пустыню; но именно эта пустыня воспевается как «прекрасная пустыня», и она обещает не только тяготы и скорби, но и полноту целомудренной радости для зрения и слуха, когда «древа листом оденутся, на древах запоет птица райская архангельским голосом». Кажется, нигде в русской народной поэзии теме красоты ландшафта не дано столько простора, как в этих песнях, воспевающих отказ от соблазнов богатства и бездумной неги. Только суровый смысл целого оправдывает перед судом традиционной русской духовности любование красотой, ручаясь за то, что красота не выродится в щегольство и гедонистическую прихоть, но останется «благообразием».
На этом историческом фоне знаменитые слова Достоевского о красоте, которая спасет мир, предстают как нечто большее, нежели мечта романтика. Традиция дает их смыслу скрытое измерение.
Собственно этический аспект тысячелетней традиции русского православия — предмет слишком большой, сложный, обильный внутренними контрастами, чтобы его можно было осветить в нескольких словах. Имеются параллели с великими образами средневекового Запада: Сергию Радонежскому было так же легко по-дружески поладить с медведем русского леса, как Франциску Ассизскому — с волком из Губбио (так что и русский святой имеет некоторые права на место среди патронов нынешнего экологического движения); деятельная доброта Юлиании Лазаревской, лишавшей хлеба себя самое, чтобы накормить народ в голодные годы, заставляет вспомнить ее западную сестру Елизавету Венгерскую (а если житейская трезвость жития Юлиании, написанного ее собственным сыном, исключает красивое чудо с превращением хлеба в розы, вспомним, что чудо это отсутствует и в самых аутентичных сведениях о Елизавете, даже в «Золотой легенде» Иакова Ворагинского). Но хотелось бы отметить по меньшей мере две специфические черты.

Во-первых, единственный род любви, о котором старинному русскому человеку не стыдно говорить,— это сострадательная любовь, материнская или по тембру сходная с материнской. В отличие от средневекового Запада с его культурой куртуазного обожания Дамы, распространявшегося и на область религиозной святыни, Дева Мария, или, говоря более по-русски, Богородица, — здесь никогда не предмет облагороженной влюбленности, но исключительно источник материнской жалости, Матерь Бога, людей и всех тварей. Даже применительно к супружеской любви, какой ей должно быть, в русских деревнях еще недавно употреблялся глагол «жалеть»: «он ее жалеет», «она его жалеет». Русская женщина впервые появляется в русской поэзии как Ярославна из «Слова о полку Игореве», женским ясновидением сострадания ощущающая рану и жажду своего мужа и его воинов; и рядом с ней — материнская скорбь по утонувшему князю Ростиславу, вырастающая в целый ландшафт сострадания: «…уныша цветы жалобою, и древо с тугою к земли при клонилось».
И еще один момент, специфический для Руси. Только русские переняли тип христианской аскезы, известный Византии, но, в общем, неизвестный Западу (хотя аналоги ему можно найти в поведении некоторых западных святых, от ранних францисканцев до Бенуа Лабре): речь идет о так называемых юродивых, во имя радикально понятого евангельского идеала выходивших из всякого истеблишмента, в том числе и монашеского. Однако между Византией и Русью имеется существенное различие. Византийский юродивый, занятый посрамлением суетной гордыни в себе и других, бросающий вызов страху перед чужим мнением и постольку продолжающий дело античных киников, как правило, остается безразличен к социальной этике. Но русские юродивые в дни народных бедствий болеют душой за народ, они пользуются своей выключенностью из обычных связей, чтобы сказать в лицо свирепому и упоенному своей безнаказанностью носителю власти — хотя бы это был сам Иоанн Грозный — ту правду, которой больше никто сказать не посмеет. Никола Псковский обличал Грозного, по словам жития, «ужасными словесы»; воображение англичанина Флетчера было поражено юродивым, говорившим на улицах против Годуновых. Юродивый в «Борисе Годунове» Пушкина, дающий отповедь «царю-Ироду», царю-детоубийце, как голос принужденного «безмолвствовать» народа, — не только художественно убедительное, но исторически точное обобщение житийных и летописных эпизодов.
Из книги «Слово Божие и слово человеческое. Римские речи». — М.: Никея, 2023



