
«Чудо от иконы „Богоматерь Знамение” (чудесное спасение Новгородской республики от коалиции князей)
Философия есть уподобление Богу в возможной для человека степени. Практическая философия упорядочивает нравы и учит, как следует устраивать свою жизнь. При этом, если она воспитывает одного только человека, то называется этикой, если же целое человеческое сообщество, то называется политикой.
Прп. Иоанн Дамаскин. Источник знания
«Православие», «русская идея»: истерическая паразитация на этих понятиях достигает в наши тяжелые дни критических значений. Мы, конечно, не сможем здесь даже и в минимальной степени обозреть всю древнерусскую тео-полито-логию, древнерусское богословие власти и насилия; мы здесь только выделим семь весьма и весьма характерных текстов — семь опытов древнерусской политологии, т. е., по прп. Иоанну Дамаскину, — семь опытов практического уподобления Богу, семь опытов коллективной этики.

Первый — и хронологически и чисто логически — текст: образец, правило, парадигма, архетип православной политики — «Сказание и страдание и похвала святым мученикам Борису и Глебу», — самое популярное на Руси и, безусловно, лучшее с литературной точки зрения произведение о страстотерпцах Борисе и Глебе, настоящий шедевр древнерусской литературы.
Владимир, отец страстотерпцев, взошел на трон, убив своего брата — а его сыновья Борис и Глеб на такое уже не пойдут. Есть в жертве Бориса и Глеба конкретная политическая актуальность для Древней Руси: братоубийственные войны, нескончаемая склока внутри правящего семейства — главная проблема древнерусской политики. Борис и Глеб предостерегали (своей жизнью-смертью) именно от нее. Лучше дать себя убить, чем участвовать в братоубийстве.
Святые Борис и Глеб, первые русские святые (Ольгу, Владимира и др. стали почитать много позже), освятившие начало христианства на Руси, были сыновьями крестителя Руси Владимира, отказавшимися участвовать в жестоких, братоубийственных играх за власть их современников: они предпочли умереть. Сейчас может удивить их «пассивность» в политической борьбе: почему они не «сопротивлялись злу силой»? Но такова вера Христова: христианину должно отречься мира. Подвиг братьев-князей не в «пассивности», но напротив — в радикальной, активной, скандальной политике не-насилия: легче было бы подлинно-пассивно действовать по мирской логике насилия-борьбы, а не прикладывая огромное усилие поступить («пассивно») вопреки ей, уничтожая ее — собой. Наши предки в подвиге Бориса и Глеба нашли для себя непосредственный пример этого отречения, который, несмотря на все дальнейшие «компромиссы» Русской Церкви навсегда светил русским христианам как пример — или как укор: характерный радикализм первых христиан — ведь Борис и Глеб как раз «первые христиане», «первое христианское поколение» для Руси: русское первохристианство, как бы наш «Новый Завет». Этот же подлинно христианский радикализм свойственен и отцу князей-страстотерпцев — Владимиру с его попытками евангелизировать всю общественную жизнь по образцу общины, описанной в книге Деяний, которого лишь епископы (достаточно традиционные, чтобы не быть «радикалами») отговорили от отмены смертной казни (как гласят, во всяком случае, древнерусские тексты). На Руси Бориса и Глеба чтили без всякой официальной канонизации, в Константинополе не понимали подвига страстотерпцев и сдались лишь после долгого давления русских: так, собственно, и появился особый чин «страстотерпцев» — не мучеников за Христа в строгом смысле, но праведников, принявших на себя вольное, невинное страдание. Страстотерпчество, вольная, невинная смерть, лишь бы не совершать зла — древнерусский вклад в агиографию. Характерно, что князья Борис и Глеб не были какими-то «мироотрицателями»: «Сказание и страдание и похвала» как раз показывает их жизнелюбие, молодость, явное, откровенное нежелание умирать, желание жить (совершенно слезные и гениальные места посвящены этому в «Сказании») — но не ценой братоубийства, не ценой участия насилии.
Святая власть, истинная, законная власть наследников Владимира — власть, не приемлющая насилия, так что лучше умереть, потерять власть, но не убивать, не применять насилие. Такова первая, парадигмальная, архетипическая формула отношений власти и насилия в древнерусской тео-полито-логии. Сохраняя в уме эту парадигму, перенесемся на пять веков вперед от Бориса и Глеба — в эпоху Ивана III, эпоху становления священного Русского царства, православной Московии.

Преподобный Иосиф Волоцкий — может быть, главный автор нашей подборки по трем причинам: по своему определяющему влиянию, по степени разработки тео-полито-логии, по степени фальсификации его взглядов. Прп. Иосифу в исторической памяти/мифе очень не повезло: он стал символом сервилизма, освящения самодержавия, репрессий и пр. и пр. Это все — не правда. Прп. Иосиф в своем главном труде «Просветитель» пишет:
«/Цари/ могут благодетельствовать и мучить тело, но не душу. Поэтому следует поклоняться и служить им телом, а не душой, и воздавать им честь как царю, а не как Богу. Если же некий царь царствует над людьми, но над ним самим царствуют скверные страсти и грехи: сребролюбие и гнев, лукавство и неправда, гордость и ярость, злее же всего — неверие и хула, — такой царь не Божий слуга, но дьяволов, и не царь, но мучитель. Такого царя, за его лукавство, Господь наш Иисус Христос называет не царем, а лисицей: “Пойдите, — говорит Он, — скажите этой лисице” (Лк 13:32). И пророк говорит: “Царь надменный погибнет, потому что пути его темны”. И три отрока не только не покорились повелению царя Навуходоносора, но и назвали его врагом беззаконным, ненавистным отступником и царем злейшим на всей земле (Дан 3:32.). И ты не слушай царя или князя, склоняющего тебя к нечестию или лукавству, даже если он будет мучить тебя или угрожать смертью. Этому учат нас пророки, апостолы и все мученики, убиенные нечестивыми царями, но не покорившиеся их повелению. Вот как подобает служить царям и князьям. И довольно об этом».
Итак: пророки, апостолы, мученики, сам Иосиф учат чему? — неповиновению властям. Или, вот например, преподобный Иосиф (не-епископ, только игумен) спорит с архиепископом:
«Серапион архиепископ говорит: «Волен государь, хочет грабит, хочет жалует». А то забыл, что говорит Божественное Писание: если не судите по правде, если не по воле Божией живете, но уповаете на ложь и желаете расхищать имущество (других людей), – то за это скоро и страшно на вас придет погибель … Как царица Иезавель захотела похитить незаконно виноград Науфея – за это предал ее Бог псам на корм… Как царь Ровоам захотел отнимать имения у живших в Иерусалиме людей – так с царством и жизнь потерял. Такое осуждение (от Бога) бывает тем, кто простых людей обижает».
Так что по учению Иосифа Волоцкого — ставшего символом «консерватизма», как видим, по недоразумению — не только можно, но и нужно не подчиняться неправедным властям. Несправедливому правителю — нельзя (!) повиноваться: теология сопротивления.
Иосифу не повезло и в его тео-социо-логии: он-де защитник «богатой Церкви» и пр. Между тем выдающийся историк и богослов прот. Иоанн Мейендорф в статье «Церковь, общество, культура в православном церковном Предании» пишет по этому поводу:
«В споре противостояли друг другу «стяжатели» и «нестяжатели», две монашеские и церковные группы, одинаково преданные идее важности христианской миссии по отношению к обществу, но стоявшие за различные формы христианской деятельности и свидетельства. «Стяжатели», возглавлявшиеся прп. Иосифом Волоцким (1440–1515), явились убежденными защитниками идеалов византийского теократического общества: они защищали право Церкви, и особенно монастырей, владеть большим богатством, которое предназначалось для социальной деятельности: больниц, школ и других форм общественного благосостояния. Общественное служение Церкви понималось ими как сущность самой природы христианства. Они не страшились духовной уязвимости богатой Церкви. Они верили в будущее «святой Руси», в благонамеренность московских царей, в возможность обеспечить свободное развитие Церкви, независимой от государственной опеки и насилия и способной использовать свои богатства лишь на благие дела».
Федор Степун, философ и социолог, в «Большевизме и христианской экзистенции» пишет:
«Несправедливого и строптивого царя Иосиф Волоцкий за царя не признавал: «Таковой царь, — поучает он, — не Божий слуга, но дьявол и мучитель». Г. Флоровский так решительно подчеркивает эту сторону иосифлянства, что сближает Иосифа с монархомахами. Тяжелой вины Иосифа [апология казни еретикова и пр.] отрицать нельзя, но, с другой стороны, все же нельзя забывать, что он первый выдвинул проблему социального христианства, за которую впоследствии боролись Владимир Соловьев и его продолжатели — Булгаков, Бердяев и прежде всего Федотов [Степун выделяет Федотова, ибо тот, как раз, рисовал крайне мрачный, ультраконсервативный образ прп. Иосифа]. То, что Иосиф связал идею социального христианства с властью царя, осуждать не приходится, ибо с какою иною силою мог он ее связать в ХV веке».
Наконец (места мало, а так можно было бы продолжать в таком духе еще долго), историк и богослов прот. Георгий Флоровский в «Путях русского богословия» пишет:
«Всего труднее понять преподобного Иосифа и его правду, которая так потускнела от малодушия и податливости его преемников. Но правда здесь была. Это была правда социального служения. Иосиф был прежде всего исповедником и властным проповедником строгого общежития. Он был суров и резок, но больше всего к самому себе. Все мировоззрение преподобного Иосифа определяется идеей социального служения и призвания Церкви. Идеал Иосифа, это своего рода хождение в народ. И потребность в этом была велика в его время, — и нравственные устои в народе были не крепки, и тягота жизни скорее сверх сил. Своеобразие Иосифа в том, что и саму монашескую жизнь он рассматривал и переживал, как некое социальное тягло, как особого рода религиозно-земскую службу. В его «общежительном» идеале много новых не византийских черт. Неточно сказать, что внешний устав или обряд жизни заслоняет у него внутреннее делание. Но самое молитвенное делание у него изнутри подчиняется социальному служению, деланию справедливости и милосердия. Самого Иосифа всего меньше можно назвать потаковником. И никак не повинен сам он в равнодушии или в невнимании к ближним. Он был великим благотворителем, «немощным спострадатель», и монастырские «села» защищал он именно из этих филантропических и социальных побуждений. Ведь «села» он принимает от владущих и богатых, чтобы раздавать и подавать нищим и бедным. И не только от страха, и не только из чувства долга, но именно из милосердия Иосиф благотворит, и обращает свою обитель то в сиропитальницу, то в странноприемный дом, и учреждает «божедомье» в погребение странным. Самого царя Иосиф включает в ту же систему Божия тягла, — и Царь подзаконен, и только в пределах Закона Божия и заповедей обладает он своей властью. А неправедному или «строптивому» Царю вовсе и не подобает повиноваться, он в сущности даже и не царь, — «таковый царь не Божий слуга, но диавол, и не царь, а мучитель». Здесь Иосиф почти что соприкасается с монархомахами».
«Стяжательство» иосифлян — не сребролюбие, а социальная политика, монастырская собственность мыслилась ими как «народная собственность», как фонд «социальной защиты» — в формах, подходящих для феодальной экономики. Нужно понимать, что система (денежных и земельных) вкладов в монастыри, система платных поминовений и т. п. была ни чем иным, как системой своего рода налогов с богатых в пользу бедных, системой перераспределения, системой выкачки капиталов из элит в пользу масс. Или, скажем, иосифлянское учение о неотчуждаемости монастырской собственности есть ни что иное как учение о недопустимости приватизации общественной собственности. Богатства церкви/монастырей суть богатства нищих — это древнее, раннехристианское учение на Руси напомнил и (пере)обосновал (теоретически и практически) Иосиф.
Повторим, историческая память (точнее: либеральный миф XIX в. и — тот же самый! — консервативный миф XXI в.) ужасно несправедлива к преподобному Иосифу. Напомним только несколько фактов: в большей части эпизодов своей жизни Иосиф был «фрондой», оппонентом властей — в отличие от нестяжателей и жидовствующих — движений, которые как раз выражали интересы властей; он уходит из возглавляемого им (после смерти преподобного Пафнутия) Боровского монастыря из-за несогласия с государем (и страха перед ним), который «продает, бьет, отдает в холопы» монастырских крестьян; он принимает в монастырь беглых холопов; он доказывает аристократии, что всякий человек свободен, коль скоро лично и за себя будет отвечать на Суде (эсхатологическое равенство как аргумент в пользу социального равенства и личной свободы) — в частности проповедует аристократии гуманное/христианское отношении к низшим им социально людям; он защищает в теории и проводит на практике строгое, полное равенство, общность собственности, равную обязательность труда — в своем монастыре, который становится духовным, культурным, экономическим, социальным центром всей «волоцкой страны», стержнем огромной, развитой социальной системы (запаса на случай голода, помощи бездомным и нищим, похорон и поминовения «заложных покойников» и т. д. и т. п.): строгий «коммунизм» (киновия — «общая жизнь», коммуна) как духовный/хозяйственный центр всего социума — вот что такое на самом деле иосифлянство, но ни в коем случае не «сращение с властью»: а прямо наоборот, коль скоро «жидовствующие» (главные оппоненты Иосифа) — это ведь та самая «власть» и есть; и в этом смысле апология казней жидовствующих — играет особым светом… (хорошего здесь, конечно, в любом случае совершенно ничего нет). Хотя отметим все же, что казни еретиков — нехарактерная для православия вещь, не традиционная; не зря Геннадий Новгородский апеллирует к опыту испанской инквизации как примеру («передовой западный опыт»!); таким же образом и защита монастырского землевладения — а против кого Иосиф его защищал? — против той же самой «власти», которая ведь и хотела «секуляризировать» церковные земли. Т.е., два главных предмета критики Иосифа (апология казней и апология монастырского землевладения) не только не говорят о его какой-то особенно государственическом/монархическом и т.п. позиции, но прямо наоборот.
Так что будем иметь в виду, что истинное иосифлянство — это: 1. Свободная, не подчиняющая власти, Церковь. 2. Теология сопротивления неправедной власти, теология тираноборства. 3. Активная социальная политика. Таков — огромный, но неоценный — вклад Иосифа в тео-полито-логию. Апология казней — к ужасу и стыду нашему — но должна быть тоже понята как часть этой активной социальной политики… (и еще раз: хорошего тут ничего нет) — той, что не поддерживали нестяжатели.

Историческая память/миф противопоставляет иосифлянам — нестяжателей, преподобному Иосифу Волоцкому — преподобного Нила Сорского. Однако Нил — соавтор главного труда Иосифа — «Просветителя», притом последние пять (самых «кровожадных») слов этой книги редактировал/дописывал и не Иосиф, и не Нил, а некий аноним XVII века (а в ниловой редакции «Просветителя» 12 и 13 глав, например, вообще нет). Пусть про эти сложные отношения дальше продолжит рассказывать прот. Г. Флоровский:
«Заволжское /нестяжателей во главе с Нилом/ движение в начале было, больше всего, исканием безмолвия и тишины. Это был решительный выход и уход из мира, бдительное преодоление всякого «миролюбия». Потому и образ жизни избирается скитский, уединенный, — «общежитие» кажется слишком шумным и слишком организованным. Нестяжание и есть именно этот путь из мира, — не иметь ничего в миру… Правда Заволжского движение именно в этом уходе, — правда созерцания, правда умного делания… Но сразу нужно оговорить — это было не только преодолением мирских пристрастий и «миролюбия», но и некоторым забвением о мире, не только в его суете, но и в его нужде и болезнях. Это было не только отречение, но и отрицание. С этим связана историческая недейственность Заволжского движения…»
«Приходят или возвращаются в мир заволжцы не для того, чтобы в нем строить, но чтобы спорить, чтобы бороться с обмирщением и самой церковной жизни, чтобы напоминать и настаивать на монашеском исходе, — таков был смысл этого памятного спора о церковных имениях с осифлянами. Именно этот отказ от прямого религиозно-социального действия и был своеобразным социальным коэффициентом Заволжского движения…»
«Разногласие между осифлянством и заволжским движением можно свести к такому противопоставлению: завоевание мира на путях внешней работы в нем или преодоление мира через преображение и воспитание нового человека, через становление новой личности».
«Становление новой личности», «преображение человека»: искусство искусств, культура себя, аскетика, умное делание, исихазм: Нил Сорский — первый русский учитель этого искусства, его «Устав и предание» — первый русский систематический трактат о нем. Как нам, однако, охарактеризовать тео-полито-логический вклад Нила? — против иосифлянского «коммунизма» он выставляет мистико-аскетический «анархизм», программу микрокоммун христиан, ушедших, порвавших с миром, живущих своим трудом; и дальше: Нил — критик сребролюбия как личной страсти и социальной силы (грозящей извратить/разрушить православное монашество), критик насилия, жестокости, казней; апологет автономии, самообеспечения христианских, трудовых коммун.
Так или иначе: Иосиф и Нил, их (теоретические и практические) движения возникают вокруг ряда смежных тео-полито-логических тем/проблем: деньги/собственность — устройство христианской/монашеской общины — право/репрессии/вера: социально-экономическая инфраструктура — юридически-политическая перемычка инфра- и супра- уровней социума — культурно-теологическая супраструктура. Что можно сказать про споры, «нелюбки» Иосифа и Нила? — главное вот что, опять же вопреки историческому мифу: программа Иосифа проиграла, а вот программа Нила худо-бедно, но была исполнена: христианское общество справедливости не только не было построено, но было построено нечто противоположное — рабовладельческая абсолютистская империя. Но несмотря на это тонкий ручеек микрообщин умного делания смог пробиться сквозь страшные века секулярной крепостнической империи. Тут открывается возможность совмещения нестяжательской и иосифлянской тео-полито-логий: исихастские/трудовые/мистико-аскетические/автономные коммуны суть хранители-трансляторы сквозь века аутентичного христианского опыта; они устроены так, как устроены, чтобы не слиться с миром сим, сохранить в чистоте высоту/глубину православия; при благоприятном историческом шансе такие «нестяжательские» общины могут трансформироваться в «иосифлянские» центры мощной, масштабной экспансии в макросоциум. Выразим ту же мысль в терминологии Хоружего (специалиста в области восточнохристианских духовных практик): «нестяжатели» суть производители/хранители/трансляторы собственно духовных практик (Иисусовой молитвы и т. д.) и производимого ими специфического опыта (созерцание Нетварного Света и т. п.); а вот «иосифляне» — создатели примыкающих, ассоциированных практик: применение того, что созидается в духовных практиках в культуре, социуме, экономике. Нестяжатели: духовные практики. Иосифляне: ассоциированные с этими духовными практиками, примыкающие к ним художественные (иконописные и т. п.), культурные, социальные, экономические и т. д. практики. Вот почему не верно противопоставлять нестяжателей и иосифлян.

И Иосиф, и Нил боролись против ереси «жидовствующих» (между прочим, охвативший прежде всего высший клир и высшую аристократию — в частности русского митрополита и русского государя). Один из ее адептов — Федор Курицын, кто-то вроде тогдашнего министра иностранных дел и предполагаемый автор «Сказания о Дракуле-воеводе» (в точности его автор неизвестен). Но кто бы ни был автором «Сказания», и из каких бы кругов оно бы ни вышло, так или иначе — оно — важейший тео-полито-логический документ рождающегося священного Русского царства, православной Московии.
«Сказание» описывает некоего православного правителя и непростого:
«Был воевода, христианин греческой веры, имя его по-валашски Дракула, а по-нашему — Дьявол. Так зломудр был, что, каково имя, такова была и жизнь его».
Реальный прототип «православного дьявола» — Влад Цепеш, румынский православный правитель. Правитель-бес православной веры: грозный-правитель-бес-палач-садист-шутник и «настоящий мужик». Этакий православный/бесовской трикстер со всеми этими столь знакомыми (по психоанализу и новостям) анальными/садистскими штучками: «Цепеш» это ведь «колосажатель»: и наш православный бес-правитель любил что-нибудь вставить в анальные/вагинальные отверстия (в анальное отверстие — колы; в вагины — железные пруты: последнее есть мера по оздоровлению общественной нравственности). Тут вполне угадан Иван Грозный (за поколение до его правления: этакое пророчество), еще один трикстер-палач, грозный остроумец с богословский жилкой; «справедливый/суровый» правитель-маньяк. Литература тут схватывает какой-то важный «архетип» восточнохристианской политической культуры. Тут мы находим прицельно «православную» политико-религиозную конфигурацию. Тут даже дело не в отсутствии милосердия в пользу справедливости/наказания, но в том, что Дракула и справедливость/законность нарушает: справедливость/закон/власть как повод, как предлог для насилия: дело именно в сладости насилия; и «справедливость» тут обыгрывается в специфическом инфернальном юморе; власть тут манифестируется как насилие, как пытка, как казнь, а не как закон/суд/справедливость/порядок и пр. Насилие это власть, власть это насилие: «закон» — лишь камуфляж, который легко отбрасывается. Пытать, убивать — и часто с перверзной жилкой: все это не случайность, не просто «произвол», это не просто «зло», но зло, вписанное внутрь религии; все это не просто «зло», но зло, из коего извлекается сладчайшее наслаждение и в том числе морально-религиозного толка: «мы правы, мы грозны, мы справедливы и явленно это в нашей силе, нашей возможности унизить, причинить боль, убить»: «Был воевода, христианин греческой веры, имя его по-валашски Дракула, а по-нашему — Дьявол. Так зломудр был, что, каково имя, такова была и жизнь его»: замечательная формула, самое начало «Сказания», задающее его смысл. Христианин-дьявол, православный бес, царь-демон. Но в чем демонизм? — в пытках, в агрессии, в жестокости, в насилии: демонизм, бесовщина — это несправедливая власть, наслаждающаяся собой в полном сознании своей не-справедливости «диктатура». Вспомним прп. Иосифа: царь-мучитель — не «божий слуга», а «диавол»: царь-диавол — о его возможности, его опасности свидетельствуют и прп. Иосиф и автор «Сказания о Дракуле».
Главный тео-полито-логический вклад «Сказания»: православная культура (в «Сказании») квалифицирует все вышеописанное именно как бесовское зломудрие; православная культура знала, что во главе православного государства может встать «православный» дьявол, что «православная» политика может быть недвусмысленно инфернальной: сатанократия, правление Дракулы, карнавал насилия. Свидетельство православного политического мышления: да, во главе православного государства может встать натурально «дьявол». Прямо противоположно правлению Бориса и Глеба.

«Сказание о Дракуле» носит явно критический характер. Не критический уже, а наоборот — апологический взгляд на священное Русское царство, православную Московию, ее собственное самосознание, самооправдание мы находим в «Сказаниях о начале Москвы, о князьях владимирских, о Вавилоне».
— в «Сказаниях о начале Москвы» читаем:
«два убо Рима падоша, третий же стоит, а четвертому не быти. Поистине же сей град именуется третий Рим, понеже и над сим бысть в начале то же знамение, яко же и над первым и вторым; и аще и различно суть, но едино кровопролитие».
Москва наследует Риму, и тождество всех «Римов» в чем? — в кровопролитии: царствующий град основывается на крови. Радикальная, страшная политология, прозревающая самую суть Империи («Рима»). Сказания утверждают следующую политическую теологию:
«Первому бо Риму зиждему от Рома и Ромила, и егда мастеры начата созидати и ров копающе, обретоша главу внове закланна человека, нову и теплу, кровь точащу и лице являющу к живым прилично, ея же увидевше ентинарий искусний знамением смотритель и рече, яко сей град глава будет многим, но во времени и по заклании и по пролитии кровей многих. Такожде и второму Риму, си речь Констянтину полю здания зачало бысть не бес крове же, но по заклании и по пролитии кровей многих. Сице же и нашему сему третиему Риму, Московскому государьству, зачало бысть не без крове же, но по пролитии же и по заклании кровей многих». Есть там странный эпизод галлюцинаторной монструозности: «въехав во остров темен и непроходим зело, в нем ж бе болото велико и топко, и посреде того болота и острова узре/основатель Москвы и ее династии/князь великий Данило Иванович зверя превелика и пречюдна троеглава и красна зело. … на сем месте созиждется град превелик и распространится царьствие треугольное, и в нем умножатся разных различных орд люди, то есть прообразуют зверя сего троеглавого».
— «Сказание о князьях владимирских» занимается той же темой с точки зрения правящей династии. Власть московских государей продолжает власть римских императоров; и начало этого перехода от одного Рима к другому удивительно: Август, завладев единовластием в Империи, расставляет своих людей в разных областях Империи: Ирода ставит над Иудеей (где тот убивает младенцев, надеясь убить новорожденного Христа), а «Пруса, родича своего» над Пруссией — и тот как раз оказывается предком Рюриковичей, московских государей. Странная, страшная рифма.
— Предыдущий текст также рассказывает о передаче царских регалий от Второго Рима к Третьему, от Византии к Московии. «Сказание о Вавилоне» ставит эту тему в центр, и тут все становится совсем странным: власть московских царей восходит к Вавилону, к Навуходоносору: «два венца: царя Навуходоносора и царицы его. Они же, взяв их, увидели грамоту, написанную греческим языком: «Эти венцы сделаны были, когда царь Навуходоносор воздвиг золотого идола и поставил его на Дирелмесском поле» — эти-то венцы и есть царские регалии, попадающие сначала к царям Второго Рима, а от них — к царям Третьего Рима — Москвы; венцы, царские регалии, связанные с воздвижением золотого идола; притом венцы эти — все, что осталось от Вавилона, где всех пожрали змеи (там вообще страшный рассказ: опустошение, царство смерти, царство змей — в копилочку галлюцинаторной монструозности). Очевидно, что все это какая-то странная, извращенная отсылка к библейской истории: Навуходоносор — разрушитель Иерусалима, персонаж Книги Даниила, первого апокалипсиса со всеми его богоборческими зверями-империями.
Итак: «единое кровопролитие» есть основа власти, включая власть Москвы; а Москва наследует Риму и Вавилону: и вот это все есть собственная, внутренняя идеология Московского царства, его самообъяснение, самосознание.
Сложно тут не увидеть какое-то подспудное, бессознательное подозрение: да все ли благополучно с тем царством, что основывает себя на кровопролитии и преемстве с Римом-Вавилоном (апокалиптических образах предельного зла)?
По Жирару, генезис социального порядка — он же генезис Сакрального — вкратце таков: 1. Всякое желание треугольно, то есть имеет не менее трех субъектов, привилегированный пример — адюльтер (муж, жена, любовник-соперник). В Сказаниях о начале Москвы находим адюльтер жены князя Данилы. 2. Такое желание неминуемо порождает конфликты, то есть двойнические структуры (соперники — муж и любовник — от общего объекта желания — жены — переходят к борьбе друг с другом, то есть к двойничеству; двойники, близнецы и т. п. — фигуры, присутствующие в любой мифологии). В Сказаниях находим две таких структуры: жена изменят сразу с двумя братьями Кучковичами, им противостоят братья-князья Данила и Андрей. 3. Конфликт, разгорающийся к смерти, на пике порождает галлюцинаторную монструозность. В Повестях: Данила видит трехглавого змея, «прообразующего» будущее «треугольное» Царство (Московию). Данилу убивают жена и любовники-братья. 4. Кульминация: финальное жертвоприношение, коллективное убийство, генерирующие новый порядок, новое Сакральное. В Повестях: торжественная, публичная казнь жены Данилы и братьев Кучковичей. Князь Андрей торжественно говорит сразу после казней:
«Боже вседержитель, творче всем и создателю. Прослави, господи, место сие и подаждь помощь, исполни хотение желание моего, еже устроить град на сем месте и возградити святыя церкви».
Таково начало Москвы, причем Москва уже существовала до своего начала, как и в любом космогоническом мифе до начала космоса этот последний уже существовал, но в хаотическом состоянии для перехода из коего в порядок (из хаоса в космос) нужно всегда кого-то убить (см.: космогонические убийства Тиамат, Имира, Пуруши и пр.): по Жирару тут нет ничего странного, потому что любой миф есть рассказ о переходе от социума в кризисе («хаос») через коллапс насилия («учредительное жертвоприношение») к новому социальному порядку («космос»). В Сказаниях мы и видим непосредственно рассказ о переходе от одного, старого политического порядка через кровавый кризис к другому, новому.
Таков миф о начале Москвы, и самое удивительное, что как будто бы этот миф чуть ли не сознательно жирарианский. Москва — Третий Рим, потому что как и Первый, как и Второй, основана на «кровопролитии»; это проговаривается ясно, прямо, открыто. Но если мы в этиологическом мифе находим и кровопролитие, и адюльтер, и домино мести-насилия, и двойников/братьев, и галлюцинаторного монстра (еще и с прямым упоминанием «треугольности») — то тут действительно сложно не вспомнить жирарианские выкладки. Жирар, конечно, учил о том, что описанные структуры суть структуры демонической/языческой религиозности, дезактивированные христианством, а тут — миф о начале столицы христианского царства: и самое удивительное, что трудно отделаться от ощущения, что авторы Сказаний тоже как будто бы видят здесь некую странность, и пишут как будто бы с какой-то задней критически-«жирарианской» мыслью; так или иначе, такие они — предания древней православной Московии:
«Князь Андрей повелел княгиню Улиту взять и мучить ее разными муками лютыми, а затем предал ее злой смерти … приказал боярина Стефана, казнить, а детей его замучить лютыми разными муками. И тут боярин Кучка и сыновья его злейшую кончину приняли. … детей Стефана, замучил разными муками и все имение их, золото, серебро и прочее богатство, разграбив, отослал к себе … И воздал он хвалу Христу-Богу, и Богородице, и всем святым за то, что помог ему Бог победить и отмстить».
Бог помог лютым пыткам и казням, грабежу, убийствам, мести. Какое, однако, откровенное описание насильственного перераспределения власти и собственности! Московское благочестие! Московско-«православная» тео-полито-логия! Поразительно, что тут есть прямая отсылка к Борису и Глебу — то ли в окончательном ослеплении властью-насилием — полном непонимании, что история Бориса и Глеба и вот эта мифическая история основания Москвы прямо противоположны — то ли (кто знает?) как намек, скрытое указание именно на эту явную противоположность.
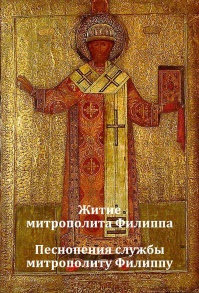
Вся эта в высшей степени противоречивая констелляция тем/идей/проблем эмпирически явлена, может быть, в наиболее ясном виде в казни святого митрополита Филиппа по приказу православного царя Ивана IV Грозного (поколение спустя после написания текстов Иосифа, Нила, «Дракулы»), а поэтому наш следующий текст — «Житие митрополита Филиппа. Песнопения службы митрополиту Филиппу» (и «житие», и «песнопения» написаны по историческим меркам «сразу после» казни митрополита — в ту же эпоху).
Яркий пример истинного иосифлянина — святитель Филипп Московский, соловецкий игумен, активно развивавший монастырское хозяйство, и московский митрополит, обличавший Ивана Грозного — сумасшедшего, кровавого тирана. Святитель пал от руки царского палача. Предстоятель Русской Церкви так некогда обличал правителя в репрессиях:
«не могу повиноваться повелению твоему паче нежели Божьему… мы, о государь, приносим здесь бескровную жертву, а за алтарем льется кровь христиан».
Иосифлянин Филипп, страстотерпец, как и Борис и Глеб — против Дракулы-Ивана, царя «кровопролития». Царь-диавол.
Интересно, что нынешний правитель России:
— во-первых, уже довольно давно сказал, что страстотерпцы Борис и Глеб «не могут быть для нас примером» (то есть путь отказа от насилия, путь ненасильственного сопротивления, путь отказа от власти и силы, лишь бы не совершать греха, путь кротости — не «наш» путь);
— во-вторых, не так давно усомнился в том, что Малюта Скуратов (кто-то вроде директора ФСБ при Грозном) убил (буквально — задушил) священномученика Филипа (Колычева);
— в-третьих, при финальном торжестве тотального насилия (ядерной катастрофе), оказывается, что «мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут» — и это при отказе от мученического пути Бориса и Глеба и при (де-факто) непризнании мученического подвига Филиппа. Не мученичество-от-власти/ненасилие/кротость есть то, через что является святость, но ядерная гекатомба.
Как будто бы симптоматические тео-полито-логические высказывания?

И как конец/финал/итог/венец древнерусской тео-полито-логии (и, соответственно, нашей о ней подборки) пусть у нас здесь выступит «Собрание от Святаго Писания о антихристе». Упомянутое подозрение о каком-то этическом/политическом/теологическом (вспомним эпиграф из «Источника знания» прп. Иоанна Дамаскина) неблагополучии священного Русского царства оформляется, эксплицируется в «Собрании». Учение о властях как о антихристе (воеводе-дьяволе христианской веры, царе-диаволе) — одно из самых примечательных, характерных явлений русской религиозной жизни/мышления. «Собрание» — классический в этом смысле текст: Русское Царство есть царство антихриста (говоря языком библейской апокалиптики — есть «Рим» и «Вавилон»): такова «русская идея»: российское государство как предельное зло; таково «русское народное богословие»: и официальная Церковь — часть предельного антихристова зла: «благодать взята на небо». Древнерусская тео-полито-логия успела сказать свое слово о «модерне», о «новом времени», о «Просвещении»: богооставленность, нет Церкви, нет истинного священства, нет истинных таинств, нет благодати: абсолютизм, империя, крепостничество, рабство: триумф власти-насилия теологически схватывается как безблагодатность. Российская Империя (c пожранной/ассимилированной ею Русской Церковью) есть антихрист. Отметим, что не-никонианское, не-царское русское православие свое сопротивление власти основывает именно на учении преподобного Иосифа: «старообрядчество» — это иосифлянство (и в своем активном хозяйствовании тоже, как и в протесте против властей, как и в активной социальной политике). И еще один миф: «народ-быдло-идиоты сошел с ума по поводу обряда» и т. п., а на самом на деле вот что было: самые смелые, самые честные, самые образованные (!) русские христиане ушли в «раскол»; на деле речь шла не об обряде — не более чем в раннем христианстве речь шла о «идоложертвенном», в гусизме — о «чаше» и т. п. Прот. Г. Флоровский писал:
«Совсем не «обряд», но «Антихрист» есть тема и тайна русского Раскола. Раскол можно назвать социально-апокалиптической утопией…»
«Тема раскола не «старый обряд», но Царствие…»
«Это были скорее экстатики, или одержимые, не педанты…»
«Раскол есть вспышка социально-политического неприятия и противодействия, есть социальное движение — но именно из религиозного самочувствия».
«Мечта раскола была о здешнем Граде, о граде земном, — теократическая утопия, теократический хилиазм».
«Утверждается учение о «мысленном» или духовном Антихристе. Антихрист уже пришел и властвует, но невидимо. Видимого пришествия и впредь не будет. Антихрист есть символ, а не «чувственная» личность. Писание толковать подобает таинственно. «Аще сокровенные тайны наречены, то тайно разумевати и подобает, мысленно, а не чувственно…»
«История впредь перестает быть священной, становится безблагодатной. Мир оказывается и остается отселе пустым, оставленным, Богооставленным. И нужно уходить в пустыню. Правда уходит в пресветлые небеса. Священное Царствие оборачивается царством Антихриста…»
«Церковь на земле вступает в новый образ бытия, в «бессвященнословное» состояние, без тайн и священства. Это не было отрицанием священства. Это был эсхатологический диагноз, признание мистического факта или катастрофы: священство иссякло…»
«В бегстве от Антихриста Раскол стремится сорганизоваться в идеальное общество».
«Раскол строится всегда, как монастырь, в «киновиях» или в скитах».
«В этом отношении особенно характерен Выговский опыт, эта раскольничья Фиваида, «благочестивая Утопия раскола…»
«Выговское общежительство строилось именно по началу строжайшей общности (чтобы и до полмедницы не было своего), и в настроении эсхатологической собранности: «ничим же пекущеся о земных, зане Господь близ есть при дверех…»
«Ибо в сей выговской пустыни ораторствоваша проповедницы, просияша премудрые Платоны, показашася преславнии Демосфени, обретошася пресладкии Сократи, взыскашася храбрыи Ахилесы» (Иван Филиппов)…»
«Всего меньше можно говорить о «дебелом невежестве».
«Религиозно-демократический пафос».
«Всего менее это «старообрядчество» было хранением и воскрешением преданий. Это не был возврат к древности. Это был апокалиптический надрыв».




