
Со дня смерти Гилберта Кийта Честертона исполняется 85 лет. Тимур Щукин рассказывает о том, чем английский писатель дорог именно ему. Для него «Вечный человек», «Ортодоксия» — это не просто книги, а лекарства, которые выручили, спасли в тяжелой, душевно тяжелой ситуации.
В 18 лет я страдал от депрессии. Не было даже в мыслях обращаться к врачу или пить таблетки, поэтому «депрессия» — в данном случае не диагноз, а обобщенная характеристика очень плохого, подавленного настроения, которое не проходит месяцами, мешает думать, писать курсовые, слушать лекции, дружить, даже слушать музыку. Ну а как это состояние еще назвать? Причины были разные, но доминировала, по крайней мере, заявляла о себе прямо — на уровне сознания, причина мировоззренческая, религиозная.
Вера свалилась на 18-летнюю психику как дикая кошка на белого человека в джунглях — вот-вот задушит и откусит голову. Потом кошка превратилась в удава — медленно, но беспощадно душащего жертву, обволакивающего унынием, убеждающего, что ради будущей радости нужно отказаться от примерно всего, что доставляет радость в этой жизни, что цель жизни одна — «безгрешно» (=бездеятельно) дотянуть до финальной точки, до смерти. Никто в моей депрессии не был виноват — ни «официальная Церковь», ни конкретные священники или миряне, ни церковная субкультура. Меня вообще никогда не волновали слабости христиан hic et nunc — меня интересовало только мировоззрение, только вера Церкви. Не расстраивали слухи о жадных попах, меня трогали только слова, касающиеся самой сути христианства. Книги были для меня важнее окружающей действительности. Но это-то меня и выручило: именно книги вывели меня из депрессии. Среди них — книги Гилберта Кийта Честертона.
Чему же они меня научили?.. Нет, не так… В чем именно они меня пролечили?

Главный пунктик — смерть. Сознание смертности может парализовать, отравить, раздавить. В какой-то момент раздавила она и меня: если в жизни христианина нет особой радости, то нужно ждать смерти, жить в предвкушении гробика и холмика. Смерть страшна не только сама по себе, но своей психической радиацией — она провоцирует на дурные поступки, но еще хуже, что она провоцирует на полную бездвижность, на эмоциональную тупость.
Честертон не просто объясняет смерть — например, через отсылки к древней мифологии «умирающего и воскресающего божества» — утверждая, что даже на уровне общечеловеческой интуиции смерть не может быть финалом. Честертон не просто рационализирует — ох уж этот уютный английский рационализм — смерть, доказывая на пальцах, что она диалектически необходима для спасения. Писатель выстраивает деятельное и единственно правильное отношение к смерти — как к врагу на поле боя, как к буквально смертельному противнику.
«Обычно солдатом движут два чувства, вернее, две стороны одного чувства. Первое — любовь к находящемуся в опасности месту, даже если это место называется расплывчатым словом “родина”. Второе — ненависть к тому чужому, что ей угрожает… Люди сражаются особенно яростно, когда противник — старый враг, вечный незнакомец, когда в полном смысле этих слов они “не выносят его духа”. Так относились французы к пруссакам, восточные христиане к туркам. Если я скажу, что это религиозная распря, вы начнете возмущаться и толковать о сектантской нетерпимости. Что же, скажу иначе: это разница между смертью и жизнью, между тьмой и дневным светом. Такую разницу человек не забудет на пороге смерти, ибо это спор о значении жизни».
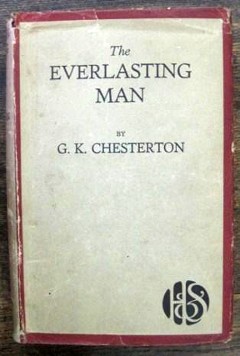
Честертон здесь подводит к читателя к противостоянию Рима и Карфагена, но в том и дело, что Карфаген — это парадигма для всякого мировоззрения, которое считает, что «смерть сильней жизни, и потому мертвое сильнее живого». Задача человека — победить смерть как то, что мешает жить, как то, что не дает жить. Это задача воина, задача авантюриста, задача человека в любом случае деятельного. Это еще не религиозность. Ведь «что толку от смерти дурного, если умирает хорошее?» Но это первый шаг к бессмертию уже в духовном смысле.
Выше я цитировал «Вечного человека». Но и второй труд Честертона, «Ортодоксия», вышедший, кажется, еще в советском издательстве «Политиздат» под той же коричневой обложкой, также обладает несомненной терапевтической ценностью — для меня уж точно. В этой книге — проповедь ценности того в христианстве, в христианской культуре, в христианском социуме, да и вообще в социуме, который живет рядом с Церковью, что как бы отрицается при формально логическом прочтении христианской практики, при следовании закону исключенного третьего. Если монашество, то нет браку, если аскеза, то нет культуре, если миротворчество, то нет воинской этике.
Честертон показывает, что христианство логично, но в рамках такой логики (она называется диалектикой), где взаимоисключающие (вроде бы) тезисы оказываются одинаково истинными и необходимыми для дальнейшего развития мысли.
Все помнят это рассуждение Честертона: Церковь критикуют за противоположные вещи, но это только означает, что истина жизни сама по себе такова, она является сочетанием того, что миру кажется несочетаемым. «Церковь не только сохранила несовместимые на первый взгляд вещи — она довела их до накала, который в миру ведом разве что анархистам». Но для меня в пору моего неофитства была важна не столько диалектичность христианского богословия, сколько «противоречивость» ее бытия в мире, ее социального измерения.

«Сила христианской этики в том, что она открыла нам новое равновесие. Язычество — как мраморная колонна; оно стоит прямо, ибо оно пропорционально и симметрично. Христианство — огромная, причудливая скала: кажется, тронешь ее — и упадет, а она стоит тысячи лет, ибо огромные выступы уравновешивают друг друга. В готическом храме все колонны разные и все нужны. Святой Фома Беккет носил власяницу под золотой и пурпурной парчой, и ему была польза от власяницы, окружающим — от парчи; наши миллионеры являют другим мрачный траур, а золото держат у сердца. Не всегда равновесие — в одном человеке, часто оно во всем теле Церкви. Монах предавался молитве и посту в северных снегах — и южные города могли украшать себя цветами. Пустынник пил воду в песках Сирии — и крестьяне могли пить сидр в английских садах. Христианский мир удивительней и сложней языческой империи. Так, Амьенский собор не лучше, а сложней и удивительней Парфенона».

Но что из этого следует на практике? Что с этого лично мне? А то, что выбор образа жизни для христианина — это не выбор из двух буридановых пунктов, это многообразие вариантов, это конструирование, проектирование жизни, где входящих бесконечное количество, а переменная только одна — Христос.
Неофитское умонастроение, будучи разновидностью интеллектуального упрощения, существенно сужает мир христианина, ограничивает его социальное пространство. «Тесные врата» — речь ведь идет об уникальности христианской истины и не-относительности понятий добра и зла — трактуются в том смысле, что эта уникальная истина и эти не-относительные понятия могут быть осуществлены в очень узком социальном коридоре — в общине, христианской семье, монастыре. Подобный подход еще как невротизирует, еще как повергает в отчаяние, и вовремя, в молодости, понять его неправильность, губительность — дорогого стоит.
Честертон — не Святой Отец. Вероятно, он не во всем прав. Еще более вероятно, что я неправильно понимаю, в чем он прав, а в чем нет. Дело не в этом. А в том, что его книги спасают, лечат конкретные психологические травмы, причиненные неожиданно поменявшимся, сломавшимся мировоззрением.
Мировоззрение может быть сколько угодно правильным. Человек (например, я) может быть сколько угодно умным и даже не совсем уж порочным. Но христианство очень уж требовательно — оно хочет не только интеллектуального принятия его, не только одобрения, но и пересмотра (если не перемены) жизненной практики. Жить как раньше не получается, а как жить — непонятно. Именно в этот момент, в час духовного уныния, Бог может послать хорошего друга, умного учителя или просто правильную книжку — например, книжку близорукого и полноватого лондонского писателя.




