
Наш великопостный цикл подошел к концу: мы реконструировали социально-теологическое измерение в сериале «Новый Папа», в библейской истории о Содоме, в новозаветном употреблении слова «койнония», у Святых Отцов. Таким образом, хотя каждый наш текст — не более чем фрагмент, тем не менее «в уме» можно из этих фрагментов достроить целостную систему. Сегодня мы добавим последний фрагмент — попытаемся прочесть роман «Бесы» Достоевского (привлекая и некоторые другие тексты писателя) как марксистский роман.
И вот зачем мы это сделаем: одно дело — находить нечто вроде «социализма» в Библии и у Святых Отцов, другое — стыковать напрямую христианство и марксизм (очевидно, для многих это невыполнимая, если не кощунственная задача, причем и для христиан, и для марксистов). Достоевский — великий христианский писатель и мыслитель, тут вряд ли кто-то будет спорить. А еще он «реакционер», бичевал социалистов, выявил демоническую природу революции в «Бесах». Так? Нет, не так.
Обычное изображение идейного пути Достоевского от левых к правым (с переломом в точке смертной казни, замененной на каторгу) не верно. Мы как-то уже писали, что точка разрыва от раннего Достоевского к позднему — не эшафот/каторга, а нечто другое, но сейчас это нам не важно (см. соответствующий текст). Главное, следует помнить, что, несмотря на свою идейную эволюцию: Достоевский всегда был христианином и всегда оставался «социалистом». Итак, «Бесы».

От либерализма к тоталитаризму
Верховенский-старший символизирует собой старый добрый, еще гуманистический, еще мягкий, вполне добродушный, «вольнодумный» либерализм. Но именно он породил в своем воспитаннике (Ставрогине) «беса», заразившего многих других разными видами бесовщины. Верховенский-младший: революционный социализм с его имморализмом; бес революции. Шатов, который тоже — бес, но зеркальный Верховенскому-младшему: бес национализма, чью бесовщину мы опознаем по тому факту, что Шатов в Христа не верит, а верит в некоего «бога народа»; бес консервативной революции, могли бы мы сказать, допуская анахронизм (этому бесу был не чужд и сам Достоевский, но вот мы видим, как на вершинах своего творчества он изобличает и своего собственного беса). Шатова часто представляют положительным героем, поэтому важно помнить, что он — один из бесов, вот цитата:
«Народ — это тело божие. Всякий народ до тех только пор и народ, пока имеет своего бога особого, а всех остальных на свете богов исключает безо всякого примирения; пока верует в то, что своим богом победит и изгонит из мира всех остальных богов.
[Ставрогин:] я хотел лишь узнать: веруете вы сами в Бога или нет?
— Я верую в Россию, я верую в ее православие… Я верую в тело Христово… Я верую, что новое пришествие совершится в России… Я верую… — залепетал в исступлении Шатов.
— А в Бога? В Бога?
— Я… я буду веровать в Бога».
Шатов верует в Россию, но не в Бога. Шатов — язычник: у каждого народа есть «свой бог». То есть тут нет «во Христе нет ни эллина, ни варвара, ни скифа, ни варвара». Более того, Шатов открыто критикует христианство:
«Цель всего движения народного, во всяком народе и во всякий период его бытия, есть единственно лишь искание бога, бога своего, непременно собственного, и вера в него как в единого истинного. Бог есть синтетическая личность всего народа, взятого с начала его и до конца. Никогда еще не было, чтоб у всех или у многих народов был один общий бог, но всегда и у каждого был особый. Признак уничтожения народностей, когда боги начинают становиться общими. Когда боги становятся общими, то умирают боги и вера в них вместе с самими народами. Никогда не было еще народа без религии».
Но христианский Бог — как раз общий, и как раз христианский мир — «народ без религии». Ставрогин, к слову, это замечает: «уж одно то, что вы бога низводите до простого атрибута народности…».
Верховенский-младший — бес социалистической революции, Шатов — бес консервативной революции, они борются, но оба бесы, ибо Христа не признают, ибо обе эти идеи: и Шатова, и Верховенского-младшего идут от Ставрогина.
Третий бес — Кириллов, бес человекобожия, атеизма, сверхчеловечества, «своеволия» — дух человека модерна, «автономного субъекта». Если бесовщина Верховенского-младшего и Шатова — бесовщина политическая, то бесовщина Кириллова — метафизическая, причем если первые — два зеркальных близнеца, то третий воплощает их общий глубинный дух, дух (само)убийственного, (само)разрушительного атеизма. Кириллов убивает себя, Шатова убивают, Верховенский-младший убивает: дух атеизма, дух убийства, дух разрушения, дух модерна, начавший с отрицания Бога и закончивший мировыми войнами и тоталитаризмом
Шатов — жертва, этим он «оправдан», консерватизм все же более люб Достоевскому; здесь он наметил, но не полностью раскрыл диалектику консерватизма, ведущую к нацизму и прочим правым диктатурам. Фашистская «метафизика» — шатовская: реакция на мир крушения ценностей, атеизма, материализма — при этом выражающая самую суть этих явлений: тоталитаризм, вождизм, концлагерь.
Шатов не верит в Христа, но хочет Бога. Кириллов не верит в Бога, но — смотрите — хочет Христа:
«Слушай большую идею: был на земле один день, и в средине земли стояли три креста. Один на кресте до того веровал, что сказал другому: «Будешь сегодня со мною в раю». Кончился день, оба померли, пошли и не нашли ни рая, ни воскресения. Не оправдывалось сказанное. Слушай: этот человек был высший на всей земле, составлял то, для чего ей жить. Вся планета, со всем, что на ней, без этого человека — одно сумасшествие. Не было ни прежде, ни после Ему такого же, и никогда, даже до чуда. В том и чудо, что не было и не будет такого же никогда. А если так, если законы природы не пожалели и Этого, даже чудо свое же не пожалели, а заставили и Его жить среди лжи и умереть за ложь, то, стало быть, вся планета есть ложь и стоит на лжи и глупой насмешке. Стало быть, самые законы планеты ложь и диаволов водевиль. Для чего же жить, отвечай, если ты человек?
Бог есть боль страха смерти. Для меня нет выше идеи, что Бога нет. Я не понимаю, как мог до сих пор атеист знать, что нет Бога, и не убить себя тотчас же? Сознать, что нет Бога, и не сознать в тот же раз, что сам Богом стал, есть нелепость, иначе непременно убьешь себя сам. Если сознаешь — ты царь и уже не убьешь себя сам, а будешь жить в самой главной славе. Но один, тот, кто первый, должен убить себя сам непременно, иначе кто же начнет и докажет? Это я убью себя сам непременно, чтобы начать и доказать. Я еще только Бог поневоле и я несчастен, ибо обязан заявить своеволие. Все несчастны потому, что все боятся заявлять своеволие. Человек потому и был до сих пор так несчастен и беден, что боялся заявить самый главный пункт своеволия и своевольничал с краю, как школьник. Я ужасно несчастен, ибо ужасно боюсь. Страх есть проклятие человека… Но я заявлю своеволие, я обязан уверовать, что не верую. Я начну, и кончу, и дверь отворю. И спасу. Только это одно спасет всех людей и в следующем же поколении переродит физически; ибо в теперешнем физическом виде, сколько я думал, нельзя быть человеку без прежнего Бога никак. Я три года искал атрибут божества моего и нашел: атрибут божества моего — Своеволие! Это все, чем я могу в главном пункте показать непокорность и новую страшную свободу мою. Ибо она очень страшна. Я убиваю себя, чтобы показать непокорность и новую страшную свободу мою».
Часто отмечают, что Кириллов — обаятельный персонаж, добрый, мистик, аскет, почти святой, или точнее — святой навыворот. Он любит Христа, во Христе — весь его идеал, и вот Христа убили, а значит, истина не за ним, все — ложь. Это начальный пункт, из коего вырастет метафизика своеволия «новоевропейского субъекта» в двух его видах: своеволие как программа (Верховенский-младший) и своеволие, понятое как угроза (Шатов). Бога нет: а, следовательно, «все позволено» (либерализм, социализм), или: Бога нет, следовательно, Его «надо создать», не веря в Него (консерватизм, фашизм, традиционализм).
В чем связь кирилловщины с щигалевщиной (социалистической революцией) и шатовщиной (консервативной революцией)? Воспользуемся хайдеггерианским анализом философии Ницше. Новоевропейский человек «убивает Бога», «выходит за границы добра и зла», одержимый волей к власти. Если Бога нет и мир пуст, то остается одинокий человек, чьей воли нет предела: воля к власти, кирилловское своеволие. Воля к власти на следующем этапе (Верховенский-младший, щигалевщина) преобразуется в тотальную власть, господствующую надо всем. Щигалев проповедует переход от «безграничной свободы» к «безграничному деспотизму», Верховенский-младший со всей своей революционностью ищет рабства у Ставрогина. Борьба своеволий переходит в тотальное своеволие немногих или одного (вождя, Ставрогина). «Смерть Бога» и буйство своеволия приводит к внутренней пустоте: самоубийство (Кириллов) или попытка заполнить ее кем-то, чем-то другим (искание вождя у Верховенского-младшего), искания «бога», припадание к «народу» у Шатова). Так, Хайдеггер видит сущностное единство большевизма и либерализма, но, однако, обманывался насчет нацизма, считая, что тот — выход из ловушки: обманулся как и Шатов, противопоставляя одному бесу — другого. Хайдеггер верно учил, что «большевизм — метафизическая структура Запада», что весь тоталитаризм был уже в старом добром либерализме — так же, как у Достоевского все начинает либерал-гуманист Верховенский-старший. Что Хайдеггер плохо понимал, что и социализм и фашистская реакция на него — суть один и тот же тоталитаризм. Начинает либерализм (Верховенский-старший), кончают социализм и фашизм (Верховенский-младший и Шатов), Кириллов — их общая метафизическая истина (см. соответствующий текст). Своеволие Кириллова переходит в революционный деспотизм Верховенского-младшего, дающий эффект консервативной революции Шатова.
Идея Кириллова — тоже разумеется от Ставрогина. Но смотрите: дилемма Христос/истина — тоже ставрогинская. Шатов кричит ему:
«— Если бы веровали? — вскричал Шатов, не обратив ни малейшего внимания на просьбу. — Но не вы ли говорили мне, что если бы математически доказали вам, что истина вне Христа, то вы бы согласились лучше остаться со Христом, нежели с истиной? Говорили вы это? Говорили?»
Ставрогину Достоевский тут приписал свою собственную, и крайне важную, важнейшую, быть может, мысль:
«[Мой] символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпа<ти>чнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной».
Модерн (то есть капиталистическая эпоха) сущностно есть эпоха атеизма. То есть веровать при капитализме можно только «против истины» (над этим работал религиозный экзистенциализм: Паскаль, Кьеркегор, Шестов, Бердяев, Унамуно). Ставрогин стоит в центре этой дилеммы: в момент, когда он выбирает «истину», а не Христа, начинается (логически, не по хронологии романа) диалектика бесовщины: Кириллов — Шатов — Верховенский-младший, атеизм в правой и левой формах. При этом атеизм на своей собственной высоте может только саморазрушиться (Кириллов) или впасть в идолопоклонство (революционный деспотизм Верховенского-младшего и «бог-народ» Шатова).
Если же Ставрогин выбрал бы Христа, а не «истину», то сбылись бы слова святого старца Тихона: «Вам за неверие Бог простит, ибо Духа Святого чтите, не зная его», «совершенный атеист стоит на предпоследней верхней ступени до совершеннейшей веры (там перешагнет ли ее, нет ли)».
Это не случилось со Ставрогиным, но случилось с его воспитателем Верховенским-старшим: мы помним, что перед смертью он чуть не впервые в жизни читает Евангелие и спасается — но именно он начал цепочку бесовской одержимости. Так Достоевский показывает, что возможен другой исход диалектики своеволия-атеизма. Какой?

От своеволия ко Христу
Мы можем проследить путь альтернативный «Бесам» по трем маленьким текстам Достоевского (собранным нами в одной книжке).
«Маша лежит на столе». М. Д. Достоевская, первая жена Ф. М. Достоевского, умерла 15 апреля 1864 года. На следующий день в записной книжке Достоевского появились записи, связанные с ее смертью, следующего содержания. Человек — эгоист («своеволие»). Идеал Христов — самопожертвование. Полная противоположность. Смысл истории, ее цель — в снятии этой противоположности: человек познает любовь-самопожертвование как величайшую радость: человек воплотит идеал Христов как сокровенную цель своих желаний. Но коли у истории есть цель, то должно быть так, чтобы человечество достигнув ее, не кончилось, но жило в воплощенном идеале — в полном единении-любви-самопожертвовании-радости, в райской жизни. Какова будет эта жизнь? Мы не знаем, кроме одной черты: там не будет семьи, брака, родственности. Семейство есть эгоизм, отторжение от единения всех. Оно оправдано только тем, что продолжает человеческий род, то есть историю, идущую к идеалу Христову. Человек есть переходное существо («то, что следует превзойти» по Ницше): «человек стремится на земле к идеалу, противуположному его натуре». Как сказал бы Маркс: человечность отчуждена от человека, коммунизм, конец истории — есть очеловечивание человека, как пишет Достоевский: «человек стремится преобразиться в я́ Христа как в свой идеал. Достигнув этого, он ясно увидит, что и все, достигавшие на земле этой же цели, вошли в состав его окончательной натуры, то есть в Христа».
«Социализм и христианство». К 1864 г. относится работа над статьей «Социализм и христианство», которая не была доведена до конца. По Достоевскому, история имеет три стадии: 1. Первобытность — непосредственное единение, безличная масса. 2. Цивилизация — рост личности, падение массы, чьим следствием является атеизм, низвержение всех авторитетов. 3. Реализованное христианство — личности, достигнув полноты свободы, по своей свободе, в максимуме воли, в «эгоистическом» желании соединятся снова, но уже не безлично, как в первобытности, а сознательно. Таким образом, по Достоевскому, атеизм, цивилизация (то, что мы бы сейчас назвали бы модерном, капитализмом) есть необходимая черта победы христианства, а не его враг. «Социализмом» здесь Достоевский называет крайний результат модерна, крайнее развитие личности в ее безбожии; «социализм» есть не новый этап, а предел капитализма, «социализм чрева», эгоизм, гедонизм, материализм и пр. (то есть то, что Маркс называл «грубым коммунизмом»). Крайнее развитие свободы и личности приведет к свободному союзу любви личностей — к воплощенному христианству. В записной тетради 1872—1875 гг. есть запись «социализм — это то же христианство, но оно полагает, что может достигнуть разумом».
«Первый корень». «Дневник писателя, 1881, январь, глава первая, IV». Как всегда у Достоевского — «ретроградно», «реакционно», против «либералов» и пр., с типичным достоевским смешочком. Но главное здесь вот что: мысль Достоевского о глубинном тождестве подлинного христианства и подлинного социализма. Грядущая вселенская Церковь Христова — не как структура или здания, а богочеловеческая реальность — есть всемирное единение людей во Христе, социализм. Достоевский выражает главную мысль «религиозной общественности», христианства как действия: «не созижделась еще церковь вполне, уже не в молитве одной, а на деле» — не в молитве, а не деле нужна церковь — союз людей в любви Христа: «наш русский «социализм» теперь говорю (и это обратно противоположное церкви слово беру именно для разъяснения моей мысли, как ни показалось бы это странным), цель и исход которого всенародная и вселенская церковь, осуществленная на земле, по колику земля может вместить ее. Я говорю про неустанную жажду в народе русском, всегда в нем присущую, великого, всеобщего, всенародного, всебратского единения во имя Христово. И если нет еще этого единения, если не созижделась еще церковь вполне, уже не в молитве одной, а на деле, то все-таки инстинкт этой церкви и неустанная жажда ее, иной раз даже почти бессознательная, в сердце многомиллионного народа нашего несомненно присутствуют. Не в коммунизме, не в механических формах заключается социализм народа русского: он верит, что спасется лишь в конце концов всесветным единением во имя Христово. Вот наш русский социализм!». Рифму к противопоставлению органического христианского социализма и механического коммунизма можно найти записи «Маша лежит на столе»: «учение материалистов — всеобщая косность и механизм вещества, значит, смерть. Учение истинной философии — уничтожение косности, то есть мысль, то есть центр и Синтез вселенной и наружной формы ее — вещества, то есть Бог, то есть жизнь бесконечная».
Своеволие, атеизм, «автономный субъект» модерна, капитализм — не злые случайности истории, а промыслительные ее черты. Они нужны для того, чтобы человек изнутри себя, свободно, по своему желанию дошел до Христа, и дошел действительно, действенно в христианской общественности. Сверхчеловечество Достоевского формально совпадает с ницшевским, но меняет знак: человек есть нечто, что следует превзойти (своеволие, свобода, буйство желания — инструменты этого превосхождения) — для чего? — для принятия христова идеала.Такого же видения истории придерживались, например, Лосев и Соловьев. «Бесы» лишь — зеркальная, обратная, отрицательная иллюстрация этого пути.
Чрезвычайно интересна здесь критика Достоевским семейственности. У Кириллова, Шатова и Верховенского-младшего есть свои идеи, идущие от Ставрогина. Но есть ли своя собственная, особая идея у самого Ставрогина? Пожалуй, да, и ее можно охарактеризовать как идею голого, личного своеволия, в частности — разврата. «Мы Бога убили» — проговаривает идею Ницше и Кириллова растленная Ставрогиным девочка. Как Достоевский начинает свои размышления с критики семьи, чтобы дойти через анализ своеволия до христианской общественности, так Ставрогин, начиная с разврата, через своеволие доходит до (само)разрушения. Одна и та же диалектика, по-разному пройденная.
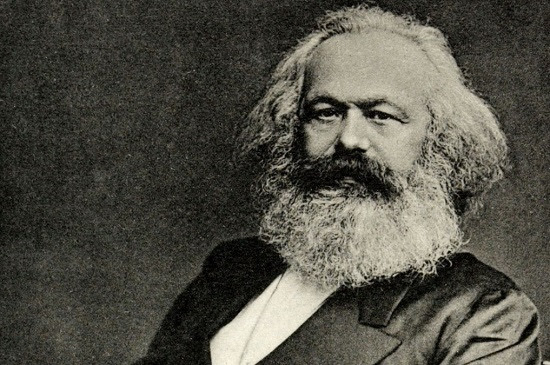
Маркс как критик коммунизма
Но что же Маркс? Разве критикуя Верховенского-младшего сотоварищи Достоевский не критикует и марксизм тоже, тем более что прямо упоминает «Интернационалку» (то есть Первый Интернационал, созданный Марксом)?
Действительно, в основе «Бесов» лежит эпизод, крайне обеспокоивший Первый Интернационал и Маркса в частности: дело Нечаева, революционера-социалиста-имморалиста, убившего своего соратника.
Верховенский-младший списан с Нечаева. Есть спорное мнение, что Ставрогин списан с Бакунина. Так или не так это, не суть важно, важно, что Нечаев — последователь Бакунина. «Бесы» критикуют именно эту бакунинско-нечаевскую стихию революции. Ту же самую, что яростно критиковал Маркс.
В работе «Альянс социалистической демократии и Международное товарищество рабочих» Маркс яростно критикует Бакунина и Нечаева. О программе Нечаева, выведенной Достоевским в идеях Верховенского-младшего и теории Шигалева, Маркс пишет:
«Какой прекрасный образчик казарменного коммунизма [о авторитаризме и сверхрегламентации нечаевщины]! [В планах Бакунина-Нечаева] постепенно восстанавливаются все элементы «авторитарного государства»; и то, что мы называем эту машину «революционной коммуной, организованной снизу вверх», имеет мало значения. Анархии, «разнуздания народной жизни», «дурных страстей» и прочего уже недостаточно. Для обеспечения успеха революции необходимо единство мысли и действия. Бакунину требуется только тайная организация сотни людей, привилегированных представителей революционной идеи, находящийся в резерве генеральный штаб, сам себя назначивший и состоящий под командой перманентного «гражданина Б.». Единство мысли и действия означает не что иное, как догматизм и слепое повиновение. Перед нами настоящий иезуитский орден. Эти всеразрушительные анархисты, которые хотят все привести в состояние аморфности, чтобы установить анархию в области нравственности, доводят до крайности буржуазную безнравственность. Догматы [Бакунина-Нечаева], чисто христианского происхождения, были со всей тщательностью разработаны первоначально эскобарами XVII века [иезуитами]. Альянс только до нелепости утрирует ее характер и на место святой католической, апостольской, римской церкви иезуитов ставит свое архианархическое и всеразрушительное «святое революционное дело». [Бакунин] заявляет, что, выступив в качестве иезуитов революции, он и другие посвященные выполнили свой долг и, вместе с тем, заполнили существовавший пробел; он говорит, что в отношении комитета они отреклись от собственной воли, что у них ее не больше, чем у знаменитого «трупа» общества иезуитов. А чтобы не отпугнуло убийство Иванова [жертвы Нечаева, прототипа Шатова], он пытается убедить в необходимости убивать всякого, кто пожелал бы выйти из тайного общества».
Так пишет Маркс, но сами видите, что это мог бы написать и Достоевский, вплоть до «католической» метафоры революционной диктатуры. Щигалев: «выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом». Верховенский-младший:
«В мире одного только недостает: послушания. Жажда образования есть уже жажда аристократическая. Чуть-чуть семейство или любовь, вот уже и желание собственности. Мы уморим желание: мы пустим пьянство, сплетни, донос; мы пустим неслыханный разврат; мы всякого гения потушим в младенчестве. Все к одному знаменателю, полное равенство.
— Себя вы исключаете? — сорвалось опять у Ставрогина.
— И вас. Знаете ли, я думал отдать мир папе. Пусть он выйдет пеш и бос и покажется черни: «Вот, дескать, до чего меня довели!» — и все повалит за ним, даже войско. Папа вверху, мы кругом, а под нами шигалевщина. Надо только, чтобы с папой Internationale согласилась; так и будет. А старикашка согласится мигом. Да другого ему и выхода нет, вот помяните мое слово, ха-ха-ха, глупо? Говорите, глупо или нет?».
Шатов Ставрогину:
«Вы веровали, что римский католицизм уже не есть христианство; вы утверждали, что Рим провозгласил Христа, поддавшегося на третье дьяволово искушение, и что, возвестив всему свету, что Христос без царства земного на земле устоять не может, католичество тем самым провозгласило антихриста и тем погубило весь западный мир. Вы именно указывали, что если мучается Франция, то единственно по вине католичества, ибо отвергла смрадного бога римского, а нового не сыскала».
И Маркс, и Достоевский критикуют одно и то же — «социализм» Бакунина-Нечаева, как предельное выражение капитализма, и одинаково рисуют его внутреннюю диалектику. Анархическое всеразрушение — отображение буржуазной безнравственности. Всеразрушение диалектически переходит в железную дисциплину и невиданную деспотию. Оба видят в этом иезуитизм, западное христианство эпохи модерна. Авторитаризм модерного католицизма — для Маркса служит парадигмой сущности капитализма в его крайнем проявлении, как для Достоевского он же служит иллюстрацией страшнейшего искажения, предательства христианства. См. «Поэму о Великом Инквизиторе» — разоблачении и «папизма», и всякого тоталитаризма вообще, всякой несвободы вообще: Великий Инквизитор — иезуит-нечаевец.
Особенно хорошо Маркс разработал эти идеи еще до нечаевского дела в «Экономически-философских рукописях»:
«Первое положительное упразднение частной собственности, грубый коммунизм, есть только форма проявления гнусности частной собственности. Коммунизм в его первой форме [«казарменный коммунизм», «щигалевщина»] является лишь обобщением и завершением отношения частной собственности. В качестве этого завершения он имеет двоякий вид: во-первых, господство вещественной собственности над ним так велико, что он стремится уничтожить все то, чем, на началах частной собственности, не могут обладать все; он хочет насильственно абстрагироваться от таланта и т.д.»
Ср. у Достоевского в «Бесах»: «каждый принадлежит всем, а все каждому. Все рабы и в рабстве равны. В крайних случаях клевета и убийство, а главное — равенство. Первым делом понижается уровень образования, наук и талантов. Высокий уровень наук и талантов доступен только высшим способностям, не надо высших способностей! Высшие способности всегда захватывали власть и были деспотами. Высшие способности не могут не быть деспотами и всегда развращали более, чем приносили пользы; их изгоняют или казнят. Цицерону отрезывается язык, Копернику выкалывают глаза, Шекспир побивается каменьями — вот шигалевщина! Рабы должны быть равны: без деспотизма еще не бывало ни свободы, ни равенства, но в стаде должно быть равенство, и вот шигалевщина!». Цитируем Маркса дальше:
«Непосредственное физическое обладание представляется ему единственной целью жизни и существования; категория рабочего не отменяется, а распространяется на всех людей; отношение частной собственности остается отношением всего общества к миру вещей; наконец, это движение, стремящееся противопоставить частной собственности всеобщую частную собственность, выражается в совершенно животной форме, когда оно противопоставляет браку (являющемуся, действительно, некоторой формой исключительной частной собственности) общность жен, где, следовательно, женщина становится общественной и всеобщей собственностью. Можно сказать, что эта идея общности жен выдает тайну этого еще совершенно грубого и непродуманного коммунизма”. [Прим. Маркса: проституция является лишь некоторым особым выражением всеобщего проституирования рабочего, а так как это проституирование представляет собой такое отношение, в которое попадает не только проституируемый, но и проституирующий, причем гнусность последнего еще гораздо больше, – то и капиталист и т. д. подпадает под эту категорию.]
«В отношении к женщине, как к добыче и служанке общественного сладострастия, выражена та бесконечная деградация, в которой человек пребывает по отношению к самому себе, ибо тайна этого отношения находит свое недвусмысленное, решительное, открытое, явное выражение в отношении мужчины к женщине и в том, как мыслится непосредственное, естественное родовое отношение. Непосредственным, естественным, необходимым отношением человека к человеку является отношение мужчины к женщине. В этом естественном родовом отношении отношение человека к природе есть непосредственным образом его отношение к человеку, а его отношение к человеку есть непосредственным образом его отношение к природе, его собственное природное предназначение. Таким образом, в этом отношении проявляется в чувственном виде, в виде наглядного факта то, насколько стала для человека природой человеческая сущность, или насколько природа стала человеческой сущностью человека. На основании этого отношения можно, следовательно, судить о ступени общей культуры человека. Из характера этого отношения видно, в какой мере человек стал для себя родовым существом, стал для себя человеком и мыслит себя таковым. Отношение мужчины к женщине есть естественнейшее отношение человека к человеку. Поэтому в нем обнаруживается, в какой мере естественное поведение человека стало человеческим, или в какой мере человеческая сущность стала для него естественной сущностью, в какой мере его человеческая природа стала для него природой. Из характера этого отношения явствует также, в какой мере потребность человека стала человеческой потребностью, т. е. в какой мере другой человек в качестве человека стал для него потребностью, в какой мере сам он, в своем индивидуальнейшем бытии, является вместе с тем общественным существом».
Ср. с развратом Ставрогина и щигалевским «мы пустим неслыханный разврат», «одно или два поколения разврата теперь необходимо; разврата неслыханного, подленького, когда человек обращается в гадкую, трусливую, жестокую, себялюбивую мразь, — вот чего надо!», с судьбой Лизы в «Бесах», Сони в «Преступлении и наказании», Настасьи в «Идиоте» и т. д. То что Маркс называет «родовой сущностью человека», Достоевский выводит как святость: см. его «святых» героев и их отношение к женщинам (Мышкин, Алеша Карамазов). Дальше Маркс:
«Подобно тому как женщина переходит тут от брака ко всеобщей проституции, так и весь мир богатства, т.е. предметной сущности человека, переходит от исключительного брака с частным собственником к универсальной проституции со всем обществом. Этот коммунизм, отрицающий повсюду личность человека, есть лишь последовательное выражение частной собственности, являющейся этим отрицанием. Всеобщая и конституирующаяся как власть зависть представляет собой ту скрытую форму, которую принимает стяжательство и в которой оно себя лишь иным способом удовлетворяет. Всякая частная собственность как таковая ощущает – по крайней мере по отношению к более богатой частной собственности – зависть и жажду нивелирования, так что эти последние составляют даже сущность конкуренции. Грубый коммунизм есть лишь завершение этой зависти и этого нивелирования, исходящее из представления о некоем минимуме. У него – определенная ограниченная мера. Что такое упразднение частной собственности отнюдь не является подлинным освоением ее, видно как раз из абстрактного отрицания всего мира культуры и цивилизации, из возврата к неестественной простоте бедного и не имеющего потребностей человека, который не только не возвысился над уровнем частной собственности, но даже и не дорос еще до нее».
Это не Достоевский, а Маркс ругает «коммунизм» за зависть, материализм, нивелирование личности и пр. Ср. в «Бесах»: «кого ж я бросил? Врагов живой жизни; устарелых либералишек, боящихся собственной независимости; лакеев мысли, врагов личности и свободы, дряхлых проповедников мертвечины и тухлятины! Что у них: старчество, золотая средина, самая мещанская, подлая бездарность, завистливое равенство, равенство без собственного достоинства, равенство, как сознает его лакей или как сознавал француз девяносто третьего года…А главное, везде мерзавцы, мерзавцы и мерзавцы!».
Достоевский критиковал социализм как крайнее выражение логики капитализма, материализма, как религию хлеба, чрева, Вавилонской башни, чреватую полным рабством, уничтожением личности. Но смотрите: ведь Маркс критикует «грубый коммунизм» ровно за то же самое. Такой «казарменный», «грубый», нечаевский коммунизм — есть крайнее выражение капитализма, а не его превосхождение. Достоевский противопоставляет капитализму (и идущему ему вслед «социализму» — любовное свободное единение, действительное превосхождение частной собственности — то же, самое что и Маркс.
Маркс и Достоевский идут к одному и тому же, но с разных позиций. Достоевский прекрасно показывает метафизическую сторону дела, но не достраивает экономическую; Маркс прекрасно показывает экономическую сторону дела, но не достраивает метафизическую. Причем оба, критикуя капитализм, не забывают при этом его положительной роли: социализм вырастает из капитализма по Марксу, капитализм необходим как своеволие, из коего человек свободно вернется к Богу по Достоевскому.
Достоевский всячески ругает «социализм» как путь крайнего своеволия ведущий к крайнему деспотизму и расчеловечиванию; притом одна из сторон этого — разрушение брака и семьи в крайнем разврате; притом все это религиозно схватывается как союз Интернационала и Ватикана. Но — и вот что здесь надо ухватить — путь, который предлагает Достоевский есть не консерватизм, а тоже «социализм» — зеркально противоположный критикуемомому: путь свободного самопожертвования ведущий к свободному единению всех; притом одна из сторон этого — разрушение брака и семьи в некоем ангельском состоянии пола; притом все религиозно схватывается как христианский социализм. Но ведь — заметьте! — у Маркса же тоже самое: критика примитивного коммунизма как крайнего проявления капитализма и крайнего деспотизма — притом одна из сторон этого — «общность жен» / проституция — притом религиозно это схватывается как иезуитизм. И таким же образом как и Достоевский Маркс выстраивает альтернативный, зеркально противоположный путь: путь свободы, путь любви и окончательного преодоления проституции, путь возвращенной из отчуждения человечности.
Читать Маркса и Достоевского поэтому надо вместе, как соавторов. Под конец — маленький пример такого чтения.
«Братья Карамазовы» есть описание крайнего капиталистического разложения: гонка за капиталами, разврат, убийство. Так и Маркс не скупился на описание чудовищности, расчеловеченности капитализма. В «Карамазовых» есть, однако, не только критика, но и идеал: государство как система насилия должно обратиться, отмереть в Церковь как систему любви, в христианскую социальность. Грех католицизма по Достоевскому — в «римском» (то есть в духе государства, насилия) искажении христианства. А настоящий церковный идеал такой:
«Прекрасная утопическая мечта об исчезновении войн, дипломатов, банков и проч. Что-то даже похожее на социализм».
И правда, Маркс учил тому же. Государство как система насилия отомрет вместе с войнами, дипломатией и банками: прыжок из царства необходимости в царство свободы. Человек, чью человечность отчуждало классовое общество, наконец вернет себе человечность, или, по Достоевскому, человек дорастет до настоящей человеческой меры — Христа. «Братья Карамазовы»:
«Тема шла о социалистах-революционерах, которых тогда, между прочим, преследовали. Опуская главную суть разговора, приведу лишь одно любопытнейшее замечание, которое у этого господчика [был этот индивидуум не то что сыщиком, а вроде управляющего целою командой политических сыщиков] вдруг вырвалось: «Мы, — сказал он, — собственно этих всех социалистов — анархистов, безбожников и революционеров — не очень-то и опасаемся; мы за ними следим, и ходы их нам известны. Но есть из них, хотя и немного, несколько особенных людей: это в Бога верующие и христиане, а в то же время и социалисты. Вот этих-то мы больше всех опасаемся, это страшный народ! Социалист-христианин страшнее социалиста-безбожника». Слова эти и тогда меня поразили, но теперь у вас, господа, они мне как-то вдруг припомнились…
— То есть вы их прикладываете к нам и в нас видите социалистов? — прямо и без обиняков спросил отец Паисий».
Таким образом Маркс и Достоевский критикуют капитализм, «иезуитизм» и нечаевщину, противопоставляя им свой идеал: свободное единение людей в полноте человечности без власти, насилия, наживы и разврата. Достоевский критиковал не марксизм, а нечаевщинцу, а марксизм есть противоположность нечаевщины.
Смотрите также:
- Большая подборка книг, статей и лекций о Достоевском
- Экранизации Достоевского
- Что читал Достоевский?
- Параллельное чтение текстов Маркса и Кьеркегора
- Политическим следствиям материализма мы посвятили небольшой цикл статей




