В конце сентября исполнилось сто лет «философскому пароходу», как — с легкой руки Сергея Хоружего — стало принято называть высылку из России ряда интеллектуалов большевицким правительством. «Философский пароход» — важный элемент постсоветской антисоциалистической мифологии (как в консервативной, так и в либеральной ее формах) — мифологии, кою легче всего разоблачить простым обращением к текстам пассажиров «философского парохода», собственно к текстам высланных русских философов.
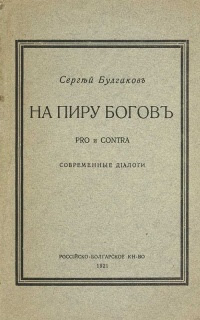
Диалоги (пост)марксиста, экономиста, социолога, философа, теолога протоиерея Сергея Булгакова «На пиру богов» (1918) и «У стен Херсониса» (1922) писались еще собственно в России, по свежим впечатлениям от бойни Первой мировой и Великой Русской революции. Они крайне показательны.
Острый стыд за патриотически-милитаристский угар начала Войны, острый стыд за все многочисленные русско-мессианские, «православно»-патриотические, милитаристски-государственнические гнусные глупости, острый стыд за идеологическую поддержку участия России в империалистической мировой бойне, поддержку отправки на бессмысленный убой русских людей, острый стыд за всю наговоренную и понаписанную за предреволюционные годы восторженно-военную истерию, вопли о неизбежности победы, о «кресте над Айя-Софией», о новой эпохе, где Россия будет лидером и пр. и пр. и пр. — вот начало диалогов: разоблачение предреволюционной («православной», «религиозно-философской», славянофильской) идеологии; признание вины и покаяние за участие в этих гнусностях, в этом преступлении, в этой — русской и мировой — катастрофе.
«Православная Россия» рухнула: вот факт, требующий уже не истерики, но осмысления — политического, философского, теологического. Пало «православное царство», пал «Третий Рим» — пал в ходе Войны. Революция, большевизм — есть лишь следствие этого, и вся большевицкая диктатура — продолжение торжествующего в мире милитаризма. Россия в бессмысленной войне надорвалась; большевизм есть ее военный надрыв. Так — в ближайшем рассмотрении, но нужно смотреть и глубже.
Жесточайшая критика «русского православия», вообще русской истории, и в особенности мифологии-идеологии над ней надстроенной. Третий Рим рухнул, «страна-цивилизация» упала в пропасть, «народ-богоносец» создал атеистическую диктатуру, невиданную в истории: практическое разоблачение славянофильской идеологии. Кризис православия, осознание его исторической, культурной слабости — и больше: его националистического греха: «православность» — вселенское христианство — было подменено «русскостью», «Церковь» — «Россией». Церковь не смогла по-настоящему, глубинно христианизировать русский народ, его культуру, общество, государство. Но великий христианский народ — каким все-таки является русский народ — не может находиться в таком положении: и исторически-культурную слабость своей Церкви он компенсировал «социалистической интеллигенцией»: ее «интернационализм» — есть компенсация отсутствующей христианской вселенскости, «кафоличности»; ее «социализм» — есть компенсация отсутствующей христианской правды, исторической силы христианства; ее собственно «интеллигентность» — есть компенсация отсутствующей христианской культуры. «Социалистическая интеллигенция» есть как бы негатив отсутствующего позитива православия. «Теократия» («Третий Рим», «православное царство») не осуществилась — и потому она негативно «осуществилась» в пролетарской диктатуре, советской республике. «Теократия» — христианская культура, христианское общество, христианская политика — главная тема диалогов.
«Катехон взят из среды». «Катехон» — как один из центральных концептов политической теологии — теперь это — после работ Карла Шмитта — общее место; но вот находим это еще у Булгакова. Православное самодержавие пало, катехон взят от среды: прошла огромная эпоха в истории Церкви (от Константина Великого до Николая II). Идея «христианской империи» уходит с исторической сцены. Но уходит ли сама тема «теократии»? — тут позиция Булгакова мерцает: «взятие катехона из среды» — апокалиптическое знамение, знак наступления предантихристовой эпохи; или: «теократия» как «царство» — исторически проиграло, но не значит, что проиграла сама теократическая задача: напротив, открывается огромная новая эпоха христианства — эпоха созидания теократии в какой-то иной, новой форме.
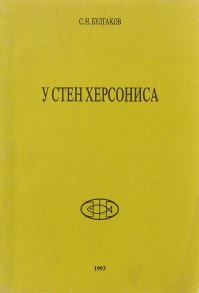
Эта суперпозиция апокалиптический пессимизм / исторический оптимизм, намеченная в «На пиру богов» в «У стен Херсониса» сменяется откатом от Третьего Рима к Первому: к «утопии» обращения России в католичество, воссоединения христианского Востока и Запада. Этот «католический эпизод» Булгаков быстро преодолел, но сама тематика и сейчас весьма актуальна: во-первых, православие — это все-таки вселенское, кафолическое христианство, или «русская вера» (и другие «национальные» веры)? — и если все-таки «вселенское и кафолическое» то где, как и в чем это, собственно, видно? Как явлена всемирность, универсальность православия? Критика «православного» русского национализма и любого другого нацианализма как прежде всего чего-то такого, что извращает христианство, блокирует его, подменяет. Во-вторых, более конкретный вопрос — вот есть Русская Церковь: какие есть богословские основания ее состава, каковы богословские причины не-отделения от нее? Булгаков прямо и буквально поднимает вопрос украинской автокефалии: какие есть причины ее отвержения — богословские, а не а-ля «Св. Русь» и прочие мифы национализма? — да просто-напросто никаких, «Московский патриархат» — чисто административное учреждение, обоснованное националистически-государственнически и не более того; точнее, механизмом и органом глобальности и единства православия служила Империя: но не сама Церковь — вот в чем дело; а Империя пала. И дальше: каков вообще механизм православного единства, каков орган учительства в Православной Церкви? — во всяком случае, у католиков есть ответы на эти вопросы (пусть «еретические», но есть), у православных, считает Булгаков в «У стен Херсониса», — нет (потом он в ряде богословских текстов сформулирует-таки православный ответ). Как бы то ни было, вся эта ситуация «русскости», «украинства», отсутствия механизмов и органов кафоличности, всемирности православия — все это причины множества нестроений в Православной Церкви, разочарования в ней, ухода из нее. «Константинова эпоха» ушла: Православие или явит свой вселенский, кафолический характер в новых исторических условиях, или исчезнет. Созидание новой православной культуры — не «славянофильской», но кафолической — так можно было бы сформулировать позитивную программу Булгакова. Любые же попытки «реставраций» и т. п. — путь в никуда, рецидивы застарелой болезни, наступание на старые грабли. В частности «православное царство» оказалось очевидной, позорной и глубоко не-христианской неудачей, провалом: христианам следует продумать некую новую, подлинно христианскую политическую теологию, новый (культурно-политический) теократический проект.
Тема «взятия катехона из среды» смежна с темой «всеобщего беженства», где Булгаков предугадывает другую важнейшую тему современной мысли (см. темы беженства у Арендт, у Агамбена, например). Рухнула не только православная империя; вообще система государств в кризисе: мир глобализован, и глобализован не только экономически, но и как «мировая война»: «империализм как высшая стадия капитализма», говоря в терминах другого русского мыслителя той же эпохи. Между прочим, Булгаков (в 1918 году) прямо и четко говорит (т. е. один из героев его диалогов), что мир вошел в острую борьбу за глобальную гегемонию между США и их союзниками с одной стороны, и Германией/Японией с другой (т. е. в финале Первой мировой Булгаков угадывает Вторую): национальные государства, пишет (пост)марксист Булгаков, созданы национальным капитализмами, которые мир перерос: капитал интернационализировался и тем обрек на умирание национальные государства и инициирует борьбу за глобальную гегемонию; но нельзя упускать из виду, пишет Булгаков, и «перспективу всемирного большевизма». Фигура этого глобального, фундаментального кризиса — «беженец», являющий собой крушение государств, их границ, все мировые противоречия, всемирность, глобальность; «беженство» есть реалия, где уже, практически государства как бы не существуют. Значимо, что альтер эго Булгакова в диалогах — «Беженец»: философствует и богословствует тут именно беженец, и это важная черта.
Надо сказать, что диалоги эти интересны скорее сборкой тем, своими вопросами, их общим рисунком — но не решениями, не выводами. Диалоги, вообще говоря, очень ироничные: первую половину их составляют раскаяние и насмешки о том, какие глупости говорили герои до Войны и Революции, и теперь-де они подобных глупостей говорить не будут; но, как мы теперь знаем, их рассуждения о России после Войны и Революции оказались тоже глупостями: поучительное чтение в этом смысле. Готовность говорить с пафосом о текущей «новостной повестке» — болезненная слабость, вредное искушение, причина многих глупостей, в конечном итоге — гадость и грех, некрофилия: ибо что есть «новостная повестка» как не кривоотзвуки, медийные перетолки чужих страданий, ужасов, отчаяний, пыток, убийств, умираний, смертей?
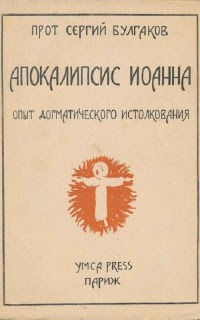
Но обратимся к последней, итоговой книге отца Сергия — «Апокалипсису Иоанна», догматическому комментарию к Откровению. Здесь найдем его итоговые выводы о политической теологии, христианской историософии. Отметим только несколько тем:
«Революционный дух Откровения».
«Купцы твои были вельможи земли» (господство буржуазии, капитализма)».
«И в нем найдена кровь пророков и святых и всех убитых на земле». Последние слова представляют собой необычную прибавку, поскольку они относятся не только к гонению на религию и ее носителей, но и ко всем вообще погибшим от буржуазно-политического террора».
«Те события и разрушения, которых ныне мы являемся свидетелями, не являются ли и они образами Страшного суда Божия и над тоталитарной государственностью, над буржуазией и капитализмом?»
Апокалипсис, утверждает отец Сергий, есть онтология истории: не гадания о будущем, но квалификация движущих сил истории; логика «последних дней» — то есть наших дней, эпохи между Пятидесятницей и Парусией. Это крайне важная мысль: Апокалипсис не есть пророчество в обывательском смысле — не гадания о будущем; Апокалипсис есть пророчество в библейском смысле: руководство по осмыслению исторических событий, руководство по ориентировке в истории. Апокалиптика есть библейская социология — «откровение» (т. е. познание) о социально-исторических силах, процессах, закономерностях и пр.
История — так, во всяком случае, ее учит видеть автор Апокалипсиса (ап. Иоанн) — есть нарастание, «прогресс» и плодоношение. История имеет смысл, и имя этому смыслу — хилиазм, торжество Тысячелетнего Царства Христова уже здесь, по сю сторону Парусии. Апокалипсис не есть книга о торжестве Антихриста (как почему-то часто думают), а о победе над ним. Хилиазм, христианская победа в истории есть как бы подготовка к новому эону, к Парусии, уготовление ее: исторически-имманентное усилие к встрече с апокалиптически-трансцендентным. Апокалипсис заповедует активный хилиазм/эсхатологизм. Мы действенно должны участвовать в истории, и это участие есть участие в приуготовлении Царства — уже в этом эоне. Хилиазм есть посюсторонняя историческая эпоха; тем утверждается смысл и ценность истории. Таков подлинный, аутентично-христианский «теократический проект».
Активно-историческое, хилиастическое сознание должно быть возрождено: то есть мы просто должны же когда-нибудь наконец прочитать Апокалипсис, который ведь новозаветная, богодухновенная книга. Должна быть понята и возрождена апокалиптическая радость. Историческое христианство забыло хилиазм и активный эсхатологизм: забвение смысла истории и забвение упования на Царство; уход в страх, спиритуализм, индивидуализм — в лучшем случае, а в худшем — просто компромисс с мирскими силами («константиновское христианство»), кои Апокалипсис квалифицирует как силы сатанинские. Но Апокалипсис должен же быть наконец понят как текст богодухновенный и тем догматически обязательный.
Важнейший пункт: нарочитая тема Апокалипсиса — догмат о государстве. Слова Петра и Павла о власти — не единственное, что сказано Новым Заветом о власти. Петр и Павел, грубо говоря, одобряют сам принцип общественного порядка и закладывают логику тактики отношений с государством. Но христианское отношение с государством по существу находим именно в Апокалипсисе. Последнее, окончательное слово здесь принадлежит Апокалипсису. Государство онтологически, в своем последнем основании — которое и обнажится в Конце и обнажается и в тех или иных «апокалиптических» исторических событиях — есть Зверь, сатанинская, противобожественная и тем — антицерковная, антихристианская сила. Апокалипсис есть тотальное разоблачение государства и рассказ о победе над государством. История этого эона кончается победой над Зверем (то есть — над государством) и торжеством Тысячелетнего Царства, то есть тем самым — неким безгосударственным состоянием человечества (а поскольку мы живем в последние дни, это происходит уже в «нашей» истории). Власть, тирания, насилие будет побеждены.
Здесь в «Апокалипсисе Иоанна», в итоговом сочинении о. Сергия, мы находим отвержение буржуазии, капитализма, буржуазно-политического террора. Опять же в рамках апокалиптики как онтологии истории (как библейской социологии) о. Сергий понимает капитализм (вообще «классовое общество») как Вавилон, которому суждено в Конце пасть и уступить место Тысячелетнему Царству Христову, кое тем самым и безгосударственно и антикапиталистично. Апокалипсис — книга об уничтожении государства и классового общества, порядка насилия, собственности, капитала.
И все это можно понимать как угодно, но точно не как «ностальгию по России, которую мы потеряли», точно не как апологию самодержавия и/или капитализма.
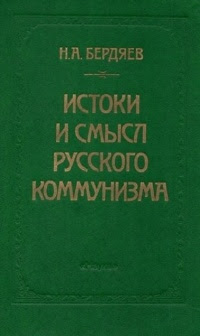
Перейдем к другому «пассажиру». Непосредственная реакция Бердяева на большевизм была резко отрицательной («Духовные основы русской революции» и ряд других текстов). В поздней же книге «Истоки и смысл русского коммунизм» Бердяев относится к большевизму если не положительно, то во всяком случае не огульно отрицательно (помимо прочего тут находим целую апологию Ленина как личности, так и политика — того самого Ленина, который инициировал акцию «философского парохода»).
Тут важно уяснить вот что: Бердяев и здесь критикует большевизм, советскую власть весьма и весьма остро, но за что? — не за социализм собственно говоря, а за тиранию, за тоталитаризм. Бердяев здесь — христианский анархокоммунист, который критикует большевизм не в смысле апологии капитализма, либерализма, монархизма, национализма и т. п., а наоборот: все отрицательные черты большевизма связываются Бердяевым с тяжелым наследием русского самодержавия, с русской управленческой культурой, с тяжелыми травмами Первой мировой и т. д. Большевизм плох тем, что он не либертарно-эгалитарен, не социалистичен. Бердяев производит анархистскую критику большевизма, критику государства, критику этатизма.
Прямо и четко Бердяев здесь защищает либертарный социализм. В этом смысле и марксизм Бердяев защищается в таких его аспектах, как: преодоление вульгарного материализма, критика отчуждения, «экзистенциальная политэкономия», борьба с капитализмом, проект свободного, безгосударственного, безрыночного общества и пр. Критикуется же Бердяевым марксизм в тех его аспектах, где он не смог преодолеть буржуазно-индустриальной культуры: атеизм, детерминизм и т. п.
Ближе к делу. В чем суть книги? — я ответил бы так: Бердяев задает «веберовский вопрос» о религиозно-социологических предпосылках большевизма. Большевизм есть «переключение религиозных энергий» на мирские (социально-политические, социально-экономические) сферы; задействование структур, паттернов, механизмов, произведенных в религии — во вне религии.
А именно: русская интеллигенция (чьим конечным, итоговым продуктом явился русский марксизм) просто-напросто даже чисто социально во многом сформирована выходцами из духовного сословия, из детей священников, из семинаристов и т. д. Тип сознания, тип идеалов, тип поведения русского революционного движения есть тип, сформированный в православии. Таким же образом и массы, поддержавшие большевицкую революцию, — это массы, так или иначе сформированные православием. Большевизм, Русская революция есть секуляризация православия, в смысле — его задействование (задействование энергий и структур, произведенных в православии) в социальной, экономической, политической областях. Православие само в себе уже всегда — антибуржуазно, анархично, социалистично и т. п.: народ, культурные, политические элиты, выращенные (так или иначе) в нем творят соответствующую революцию. Бердяев вполне четко — и идейно, и социологически — прослеживает внутреннее тождество славянофилов, народников, нигилистов, большевиков, Толстого, Достоевского, русской религиозной философии.
Чем же вызвана сама эта секуляризация? — резким разрывом Церкви, эмпирического православия и идеалов, энергий, структур им порожденных. Церковь обмирщилась, стала одним из органов Империи, далекой от православных идеалов настолько, насколько это вообще возможно. Таким образом, «православные» по типу своего сознания, по типу своих энергий люди восстают против Империи — и ее Церкви. Империя, пишет Бердяев, полностью прогнила: ее надо было разрушить; и в частности гонения на церковь, вообще воинствующий атеизм — закономерное следствия всей этой исторической диалектики.
Но тут и капканы большевизма. Их два. Как сказано уже; тиранический, деспотический, бюрократический, государственнический тип большевизма идет не от марксизма, а от наследия Империи. Империя тоже создала свои структуры, паттерны, механизмы, которые наследует большевизм. Это предопределяет худшие черты в нем: наложившие еще и на генезис большевизма из войны, из разложения Первой мировой: милитаризм многое в советском проекте предопределил (гекатомбы Первой мировой — начало гекатомб советского тоталитаризма). И второй капкан: революция смогла победить в силу секуляризации православия. Но большевизм, уничтожая старую Россию, «американизируя» ее, уничтожая Церковь и пр., уничтожает месторождение тех энергий, структур, паттернов, идеалов, которые его и создали. Бердяев пишет, что это приведет к остановке производства тех энергий, что создали большевизм; что победа большевизма в конечном счете приведет к победе буржуазности в России. Мы теперь знаем, что этим действительно все и кончилось.
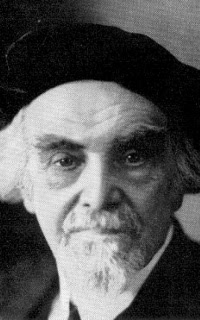
«На пороге новой эпохи» — сборник послевоенных статей (после Второй мировой) Бердяева. Интересно тут вот что: Бердяев работал много десятилетий, путь его был извилист, и вот финальная точка. К чему же пришел мыслитель? — к тому, с чего начинал: к христианскому анархокоммунизму, и даже больше: тут Бердяев не критикует марксизм, а дает ему позитивное экзистенциальное толкование, а точнее — понимает марксизм как крипторелигиозую экзистенциальную политэкономию. Вообще, прекрасная книга; короткая, ясная; основные тезисы философии Бердяева в политическо-социально-
Книга, конечно, сейчас читается как нечто грустное: Бердяев пишет после Второй мировой и обдумывает возможность «новой эпохи»; но мы-то знаем, что новой эпохи не случилось, возможности были упущены. Истина впрочем вечна.
«Борьба христианских церквей против коммунизм есть самое плохое, что может произойти. Нужен не антикоммунистический фронт, который неотвратимо превращается во фронт фашистский, а христианизация и спиритуализация коммунизма» — и тут самое интересное, что эти спиритуализация и христианизация должны происходить не извне марксизма, а за счет его внутренних ресурсов, его глубинной (уже всегда духовной, уже всегда христианской) сути — сути, которая самим христианством потеряна:
«В христианстве, которое слишком часто понималось как религия личного спасения, т. е. индивидуалистически, должно быть еще откровение об обществе. И очень много в откровении о новом обществе подготовлено в русском революционном социалистическом движении, которое не сознавало себя религиозным, но в подсознательном имеет в себе религиозный элемент».
И все это можно понимать как угодно, но точно не как «ностальгию по России, которую мы потеряли», точно не как апологию самодержавия и/или капитализма.
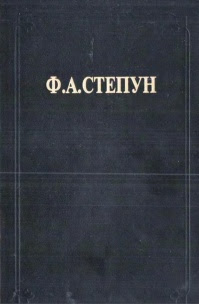
Другой «пассажир» Федор Степун сразу после высылки начинает писать цикл «Мысли о России». Степун — не только философ, социолог, публицист, театральный деятель и теоретик, но и политик-практик: эсер, депутат Всероссийского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, начальник политического управления Военного министерства во Временном правительстве (работал вместе с Савинковым, знаменитым террористом и писателем, тогда бывшим де-факто военным министром).
В философии Степуна отметим его «западничество» — апологию западной научной, философской культуры. Он и сам был известен не только в русских кругах, но был значимой фигурой в культурной жизни веймарской и постнацистской Германии (при нацистах был уволен из университета и лишен права публикации).
Нам в первую очередь Степун важен как политический философ и публицист. Вместе с Федотовым, Бунаковым-Фондаминским и др. он работал над «новоградским сознанием», которое Степун формулировал так: «единство христианской идеи абсолютной истины, гуманистически-просвещенческой идеи политической свободы и социалистической идеи социально-экономической справедливости». Зажатые между большевизмом, фашизмом, нацизмом, либерализмом, распространенными среди русской эмиграции фашизоидными течениями эти мыслители пытались создать систематическое, объемное христианское мировоззрение. Сводится оно, если кратко, к христиански обоснованному либертарному социализму: против капитализма во всех его формах, и против всякой диктатуры во всех ее формах, за социализм во имя свободы личности, во имя освобождения людей, а не нового порабощения, за демократию, но истинную, для всех — то есть за демократический социализм. Такова политическая проекция христианских истин персонализма, соборности, любви, свободы на политическую плоскость. Важно еще, что Степун (как и все новоградцы), продолжая и развивая главную тему русской религиозной философии — «христианскую политику», христианский социализм — при этом окончательно «воцерковляют» ее; новоградцы — момент русского религиозно-философского процесса, где он окончательно «открывает» православие.
Эта разница между истинами и их проекцией важна для Степуна. Христианская истина абсолютна и именно потому она не заключает в себе конкретной политической программы. Таковая программа — дело творчества современных христианских политиков; здесь возможны ошибки, а главное, нужно всегда помнить, что то, что было удачной программой сегодня, завтра таковой не будет. Это различие надо проводить и в самих текстах Степуна: одна дело философия христианского (либертарного) социализма, другое дело — его публицистика, попытки анализов конкретной политической ситуации в СССР, Германии, Франции и пр. Последнее сейчас представляет скорее исторический интерес.
В аннотации нельзя реконструировать хоть сколько-нибудь целостно систему Степуна, скажем лишь несколько слов:
Если социализм есть ликвидация капитализма, то почему он несет в себе так много буржуазных идей — материализм, атеизм, детерминизм и пр.? Если социализм ликвидирует капиталистическую формацию, то с необходимостью, согласно марксистской логике, он должен ликвидировать и надстройку капитализма: социализм не может быть атеистическим; социалистическая культура, социалистическое мировидение априори не должны совпадать с капиталистическими культурой и мировидением. Это с одной стороны, а вот с другой: христианство как религия любви и братства, как религия отверженных и «последних» не может стоять за капитализм, подлинное христианство стоит за социализм, сознательно или нет. Итак, современный социализм еще слишком буржуазен, современное христианство предает свою суть. Христианство есть социализм в религии, социализм есть христианство в политике: «своя своих не познаша».
Социализм в главном не смог еще отделиться от капитализма: атеизм и материализм суть буржуазные учения. Степун указывает, что корень наших проблем в разъединении идей политической свободы (либерализм), экономической справедливости (социализм) и христианской истины. Он предлагает их синтез в «духоверческом свободолюбивом социализме». Замечательно его формула генезиса большевизма: большевизм есть результат «только еще восходившей к своей собственной культуре русской религиозности с только что порвавшей со своими религиозными корнями западноевропейской культурой».
Кроме того, интересно степуновское описание постсоветского «буржуя», опасность черносотенного клерикализма для Церкви после ее освобождения от советских гонений. Степун считал преступлением реставрацию капитализма в России, несмотря на свой антибольшевизм, он считал установление в ней социализма большим достижением и выступал за его сохранение и развитие в сторону освобождения личности. В обратном случае, предупреждал он, Россию ждет буржуазная тирания и православный фашизм (будучи православным, Степун особенно этого боялся). Найдутся люди, которые сказали бы, что произошло как раз что-то вроде этого.
Христианство, конечно, антикапиталистично, конечно, социалистично, утверждает Степун. Марксизм, большевиков и СССР он ругает за атеизм и материализм, но соглашается с их прогрессивной ролью. Интересно, что, находясь в эмиграции, Степун размышляет, какое будет развитие постсоветской России: надо сохранить, пишет он, достижения советского периода, но «духовно» возродиться: «превращение России в типично капиталистическую страну было бы величайшим преступлением, как перед идеей социального христианства, так и перед всеми пережитыми Россией муками». Преступление совершилось.
И все это можно понимать как угодно, но точно не как «ностальгию по России, которую мы потеряли», точно не как апологию самодержавия и/или капитализма.
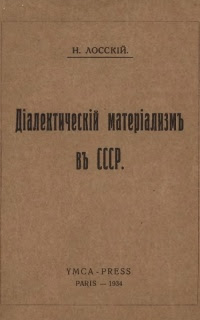
К другому «пассажиру»: у Николая Лосского есть ряд статей по социально-политико-
«Органическое строение общества и демократия»: свободно осуществляемая свободная соборность любви свободных личностей, где в любви к другим свободно расцветает каждая личность, есть цель мирового бытия. В политической проекции это самоочевидно дает демократию. Политическое устройство из последовательно продуманных христианских метафизики и этики есть демократия. Однако современная демократия существует в условиях капитализма, то есть в условиях эксплуатации человека человеком, буйстве себялюбия и пр. Отсюда самоочевидно следует вывод, что для полноты демократии требуется устранение эксплуатации человека человеком, экономической системы, основанной на себялюбии. Итак: христианская метафизика в политике дает демократический социализм.
«В защиту демократии»: здесь содержатся ответы на критику взглядов, выраженных в предыдущей статье. Из новых тем: антифашизм, антинацизм, антинационализм, антирасизм. Себялюбие в жизни народов есть национализм; соборность в жизни народов есть международное сотрудничество, ограничение суверенитета национальных государств. Короче говоря, к христиански обоснованному демократическому социализму добавляется христиански обоснованный интернационализм.
«Свобода и хозяйственная демократия»: христианская апология демократии, критика капитализма с христианско-демократических позиций. Идеал демократии и этического отношения к личности требуют перенесения демократии в сферу экономики и социальной защиты всех людей. Исходя из христианского идеала свободы и любви Лосский призывает к распространению свободы из области политической в область экономическую. Также здесь утверждается, что лучшая «идеология» для общества свободы — христианство, религия свободы, а никак не материализм, из коего ценность свободы никак не вытекает.
«Коммунизм и философское мировоззрение». Коммунизм (как экономический строй) есть обобществление, ценность целого, устранение себялюбия из экономической жизни. И вот Лосский делает в сущности самоочевидное замечание: такой экономический строй во всем противоречит материализму, такой строй требует как раз идеал-реализма. Это капитализм как экономика себялюбия обосновывается материалистической метафизикой; как обосновывать с помощью нее коммунизм, труд (более не основанный на себялюбии) в коммунистическом обществе — совершенно не ясно, крайне не последовательно. Материализм есть наихудшая «идеология» для коммунизма, материалисты не смогут построить коммунизм, не смогут жить в коммунистическом обществе. А вот христиане были бы идеальными коммунистическими гражданами.
«Диалектический материализм в СССР» — большая статья, изданная отдельной брошюрой. Под «материализмом» обычно понимают «механистический материализм». И вот Лосский показывает, что этот механистический материализм подвергается, в сущности, одинаковой критике и со стороны идеал-реализма (христианской метафизики) и диалектического материализма (марксистской философии). Далее Лосский приступает к анализу диалектического материализма по существу и приходит к следующему выводу: диалектический материализм, как и идеал-реализм, есть критика и превосхождение как одностороннего материализма, так и одностороннего идеализма, он понимает реальность («материю») как активность, спонтанность, творчество, историю, способность к свободе, сознанию, личностности. Иными словами, диалектический материализм есть не осознавший себя, не дошедший до полноты «идеал-реализм», то есть христианская метафизика.
И все это можно понимать как угодно, но точно не как «ностальгию по России, которую мы потеряли», точно не как апологию самодержавия и/или капитализма.
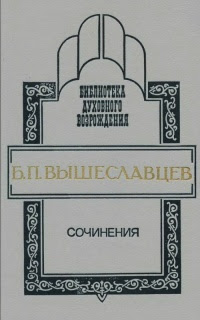
«Кризис индустриальной культуры» — труд выдающегося христианского мыслителя XX в. Бориса Вышеславцева, другого пассажира «философского парохода». Книга направлена как против капитализма, так и против коммунизма, ибо, по Вышеславцеву, оба они суть проявления индустриализма, притом коммунизм есть не отрицание капитализма (индустриализма), а его предельное выражение. Вышеславцев выстраивает христианскую философию свободы и братства. Как соединить эти две христианские ценности? Индустриализм в капиталистической и коммунистической своих формах есть власть индустриального аппарата, технократия, тирания менеджеров (государственных или частных — неважно). Вот этот индустриальный аппарат и нужно ликвидировать, чтобы построить общество свободы и братства. Нужно заменить его «хозяйственной демократией» — и только так индустриализм (капитализм и коммунизм) будет преодолен — то есть надо, развивая демократию в области политики, перенести демократию и на экономику. (Нужно иметь в виду, что в общеупотребительной терминологии то, что Вышеславцев называет «социализмом» или «коммунизмом», называется «государственным социализмом», а его идея «хозяйственной демократии» располагается в одном ряду с «рыночным социализмом», «самоуправленческим социализмом», «либертарным социализмом», «анархо-синдикализмом», «прудонистским анархизмом» — тем паче, что Вышеславцев открыто солидаризируется с Прудоном; то, что он называет «неолиберализмом», ничего не имеет общего с тем, что сейчас так называют — Вышеславцев так обозначает не-капиталистическую и не-коммунистическую идею свободы личности; вообще под «либеральным» Вышеславцев имеет в виду не «буржуазное» и «капиталистическое», а идею свободы личности.)
Короче говоря, Вышеславцев пытается сформулировать христианскую политическую идею: коль скоро христианство есть и религия свободы, и религия соборности, то она и не индивидуалистична, и не коллективистична, она религия такой свободы, которая в полноте раскрывается только в любви и братстве, и религия такой соборности, коя «состоит» из свободы каждого человека; то есть безусловная демократия, безусловные гарантии свободы личности как в политике, так и в экономике; конкретно — политическая и экономическая демократия против технократии, против индустриального аппарата — и против государственной бюрократии, и против частных корпораций, и против советской модели социализма, и против капитализма. Что-то вроде умеренного анархизма: православный прудонизм.
И все это можно понимать как угодно, но точно не как «ностальгию по России, которую мы потеряли», точно не как апологию самодержавия и/или капитализма.
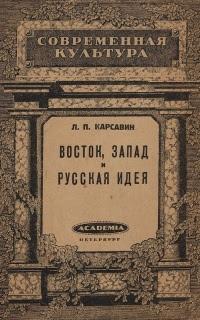
Другой «пассажир» Лев Карсавин сразу после высылки публикует небольшую книжку «Восток, Запад и русская идея» (1922). Как ясно из названия, Карсавин хочет определить место России относительно Запада и Востока. Запад есть христианский мир, Восток, соответственно, — нехристианский мир. Карсавин поэтому долго анализирует отличие христианства от нехристианских религий. Россия — христианская культура, следовательно — часть Запада. Россия — не Восток, но тогда нужно понять спецификум России в отношении Запада, внутри Запада. Таковое различие коренится в том, что Россия — восточнохристианская культура, и Карсавин в связи с этим долго размышляет об отличии восточного христианства от западного. Запад — это христианский мир, следовательно, специфика той или иной западной культуры заключается в специфике ее восприятия христианства. Вот цитата:
«Попытаемся же определить христианский культурный мир (Запад и Россию) в отношении его к нехристианскому (Востоку). Если же высшая форма религиозности и культуры «будет», она уже потенциально есть в христианстве, поскольку христианство универсально; универсально не в смысле отвлеченного общего понятия, а в смысле конкретного всеединства. Христианская культура утверждает абсолютную ценность личности. Но абсолютною признается ценность действительности только в меру ее действительности — поскольку она существует, а не является ограниченностью и недостаточностью. Поэтому такое признание заключает в себе постижение абсолютного как идеального задания и, следовательно, стремление к абсолютному, однако не в непостижимости его (или — не только в непостижимости), о чем вожделеет пантеизм, а в его актуализованности и осуществленности в конкретном, в полной действительности его в относительном и для относительного. Таким образом, христианская культура отнюдь не является отрицанием действительности, как «культура» пантеистическая, не содержит в себе принципиального отказа или ухода от мира».
О православной специфике, неожиданно в контексте революции, Карсавин пишет: «Православное сознание сочетает признание абсолютной ценности во всяком проявлении жизни с признанием относительности и несовершенства всего человеческого. А в связи с этим стоит и возможность для Востока религиозно оправдывать революцию, что ясно не только в многострадальной истории Византии. Так раскрывается истинный смысл общественной деятельности, как актуализации всеединства в каждом моменте бытия. Личная этика неотрывна от этики общественной и покоится на тех же самых началах».
О большевизме: «Россия переживает второй период острой европеизации (считая первым эпоху Петра). Задача православной или русской культуры и универсальна, и индивидуально-национальна. Эта культура должна раскрыть, актуализировать хранимые ею с VIII в. потенции, но раскрыть их путем приятия в себя актуализованного культурою западной (в этом смысл «европеизации») и восполнения приемлемого своим. «Восполнение» и есть национальное дело, без которого нет и дела вселенского» — тут интересно, что (левый) евразиец Карсавин видит в большевизме не азиатизацию, а европеизацию России. Европеизация оказывается путем осуществления пресловутой «русской идеи»: «Православная культура стоит таким образом на распутьи. — Или она осуществит вселенское, всеединое дело через освоение актуализованного Западом («европеизацию») и восполнение воспринимаемого раскрытием того, что является собственным ее идеальным заданием: специфическое задание русской культуры, русская идея. Или она раскроет только это свое, т. е. подобно Западу — ограниченно актуализует всеединство». Если и есть какая-то «русская идея», то это идея осуществления Универсальной Истины.
И все это можно понимать как угодно, но точно не как «ностальгию по России, которую мы потеряли», точно не как апологию самодержавия и/или капитализма.
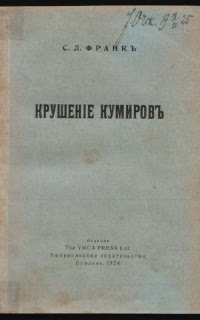
Семен Франк — «левым» не был; в современной терминологии его можно было характеризовать как социал-либерала. Спустя два года после высылки из России он пишет «Крушение кумиров» (1924) — обозрение того — через ужас, безумие, кровь, отчаяние — освободительного, очистительного опыта, что дали человечеству все исторические катастрофы начала XX века. Вот большая цитата:
«Когда разразилась великая европейская война, она оказалась для большинства русских образованных людей совершенной неожиданностью, так что еще за несколько дней до ее начала, когда все ее симптомы были уже налицо, почти никто не верил в ее возможность. Когда она стала уже совершившимся фактом, она еще продолжала казаться каким-то великим недоразумением, какой-то несчастной случайностью, результатом преступной воли кучки милитаристически настроенных правителей Германии. Никто еще не мог поверить в длительность, жестокость и разрушительный характер этой войны; она казалась не естественным результатом и выражением духовно-общественного состояния Европы и не великим историческим событием, знаменующим новую эпоху, а случайным эпизодом, болезненным, но кратким перерывом нормального культурного развития. Когда война затянулась на годы и обнаружила и чудовищность своих опустошений, и жестокость своих средств, и отчаянное, смертельное упорство воюющих сторон, отношение к ней стало понемногу меняться; тогда каждой из воюющих сторон — в том числе и нам, русским, — стало казаться, что вернуться к нормальной культурной жизни можно, только уничтожив врага, окончательно устранив самый источник войны. Война была объявлена последней войной, направленной на прекращение всяких войн, на окончательное установление мирных и честных демократически-правовых начал и в отношениях между народами. Когда разразилась русская революция — столь желанная для большинства русских с точки зрения их идеала внутренней политики — и за ней последовало массовое дезертирство и самовольная ликвидация войны, большинство русских снова с патриотической горечью ощутило, что Россия еще не доросла до гражданской зрелости Европы, что она сама себя вычеркнула из состава европейских государств, борющихся за свое существование и свою культуру. Большевизм и анархия казались злосчастным уделом одной только отсталой России, все той же несчастной России, которая, в отличие от Европы, никак не может наладить своей жизни.
И тут неожиданно грянула германская революция, и многие сразу же, хотя и смутно, почувствовали, что — при всем различии и внешнего, и внутреннего политического положения России и Германии — их постигла какая-то общая судьба, что мировая война завершается какой-то мировой смутой. Потом последовал Версальский мир, показавший, что правда и справедливость в международных отношениях — пустые слова и что все зло войны, прекратившейся на полях битвы, закреплено на неопределенно долгое время мирным договором, что взаимная ненависть, озлобление, страх перед врагом, беспощадная эксплуатация слабых есть нормальное, естественное состояние европейской международной жизни; и то же обнаружилось в своекорыстном и лицемерном отношении бывших союзников к русскому несчастию. А затем стало очевидным, что в этой войне вообще нет победителей, что общечеловеческая бойня, истребившая миллионы людей и разорившая всех, кроме отдельных хищников и мародеров, кончилась безрезультатно, не искуплена ничьим счастием и успехом. Все державы, хотя и не в одинаковой мере, истощены и ослаблены, все подавлены и внутренними раздорами, и неупорядоченностью внешних отношений; большинство победителей не знают, что начать <делать> с своей победой, и стараются — тщетно — сами загладить ее печальные последствия; другие в ослеплении губят сами себя и становятся предметом общей ненависти своим желанием во что бы то ни стало добить побежденных. Во внутренней политике на очередь дня становятся злобно-бессмысленные политические убийства — по большей части честных людей, отдающих себе отчет в ужасе положения и старающихся найти выход из него. В частной хозяйственной жизни господствует всеобщий упадок трудолюбия и производительности труда, жажда легкой наживы, спекуляция на народном бедствии; пресловутая немецкая честность и деловитость, казалось, глубоко укорененные многовековым культурным развитием, сметены вихрем, точно внешние одеяния, не имеющие никакой собственной опоры в личности.
И среди этого всеобщего смятения и маразма, как мало признаков духовного осмысления жизни и стремления к подлинному духовному возрождению!
Во всей извне окружающей нас общественной и человеческой жизни мы не находим больше спорных точек, не находим твердой почвы, на которую мы можем с доверием опереться. Мы висим в воздухе среди какой-то пустоты или среди тумана, в котором мы не можем разобраться, отличить зыбкое колыхание стихий, грозящих утопить нас, от твердого берега, на котором мы могли бы найти приют.
Через происшедшее преодоление внутренней замкнутости нашей души, через ее раскрытие и приобщение к всеединой живой основе бытия мы сразу же внутренне приобщаемся и к сверхвременному всеединству людей, живущих, как и мы, в Боге и с Богом. Теперь мы благодарны Богу за весь пройденный нами путь, как бы тяжек он ни был. Мир и наша душа должны были пройти и через поклонение кумирам, и через горечь постепенного разочарования в них, чтобы очиститься, освободиться и обрести подлинную полноту и духовную ясность. Великая мировая смута нашего времени совершается все же недаром, есть не мучительное топтание человечества на одном месте, не бессмысленное нагромождение бесцельных зверств, мерзостей и страданий. Это есть тяжкий путь чистилища, проходимый современным человечеством.
Мы, конечно, не можем уже вернуться к старым идолам и еще лучше понимаем теперь их ложность: мы не можем верить ни в какой — абсолютный порядок общественного устройства, не можем поклониться никаким политическим формам и доктринам. Мы знаем, что царство истинной жизни — не от мира сего и никогда не может быть адекватно и сполна осуществлено в условиях неизбежно греховной и несовершенной земной жизни. Но вместе с тем мы знаем с полной ясностью те пути, по которым должны идти наши отношения к людям и развитие общественности. Мы сознаем, прежде всего, как основной закон нашего нравственного мира, круговую поруку, связывающую нас со всем миром. Сознавая всеединство бытия, укорененного в Боге, мы ясно видим свою ответственность за зло, царящее в нем, и так же ясно понимаем невозможность нашего спасения вне общего спасения.
Сколько бы мы в газетах и публичных собраниях ни спорили и ни горячились, сколько бы мы ни раскалывались и ни основывали новых фракций — мы не верим больше; и не можем верить, как в абсолютную правду, ни в монархию, ни в республику и демократию, ни в социализм, ни в капитализм и частную собственность, если только мы захотим быть вполне искренними с самими собой.
Перед нами стоят всего лишь две заповеди, достаточные, чтобы осмыслить, обогатить, укрепить и оживить нашу жизнь: безмерная, безграничная любовь к Богу как источнику любви и жизни и любовь к людям, вырастающая из ощущения всеединства человеческой жизни, укорененной в Боге, из сознания братства, обоснованного нашим общим сыновним отношением к Отцу».
И все это можно понимать как угодно, но точно не как «ностальгию по России, которую мы потеряли», точно не как апологию самодержавия и/или капитализма.
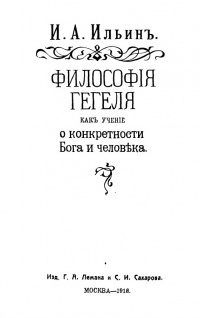
Мы назвали всех значимых философов «философского парохода» — кроме одного: Ивана Ильина; он тут — в меньшинстве, он не в основном потоке русской христианской мысли — ее отщепенец; он-то как раз «ностальгировал», он ратовал за «реставрацию»: он был открытым, откровенным фашистом, писавшим, например, такое:
«Что сделал Гитлер? Он остановил процесс большевизации в Германии и оказал этим величайшую услугу всей Европе. Этот процесс в Европе далеко еще не кончился; червь будет и впредь глодать Европу изнутри. Но не по-прежнему. Пока Муссолини ведет Италию, а Гитлер ведет Германию — европейской культуре дается отсрочка.
Несправедливое очернение и оклеветание национал-социализма мешает верному пониманию, грешит против истины и вредит всему человечеству. Травля против него естественна, когда она идет от коминтерна; и противоестественна, когда она идет из небольшевистских стран».
Среди пассажиров пресловутого «философского парохода» находим — (пост)марксиста, христианского социалиста Булгакова, (пост)марксиста, христианского анархокоммуниста Бердяева, христианского прудониста Вышеславцева, христианского демократического социалиста Степуна, христианского апологета «хозяйственной демократии» Лосского, христианского левого евразийца Карсавина, христианского социал-либерала Франка. Фашист Ильин — совсем не мейнстрим русской религиозной мысли, совсем не выразитель русской христианской культуры. Все это вещи совсем не маловажные, не «отвлеченная философия»: известно, например, что левогегелианец Ленин «тщательно, с карандашом в руках штудировал» исследование о Гегеле правогегелианца Ильина (а, в частности, фашистская триада «вождь — государство — народ» — правогегелианская концепция, о которой писал и Ильин). Великий советский философ (философия же не закончила свое существование в России после отплытия «парохода») и ветеран Великой Отечественной войны марксист Ильенков (который, кстати, тожекотировал ильинскую книгу о Гегеле) понимал последнюю именно как войну правогегелианцев (фашистов) и левогегелианцев (большевиков); Ленин, к слову, успел перед смертью предупредить об опасности фашизма. Но это уже другая тема:
— см. о реакции русского христианского мышления на Вторую мировую войну
— о отношении русского христианского мышления к национализму, милитаризму, авторитаризму
— о отношении русского христианского мышления к проблеме Россия / Запад / христианство




