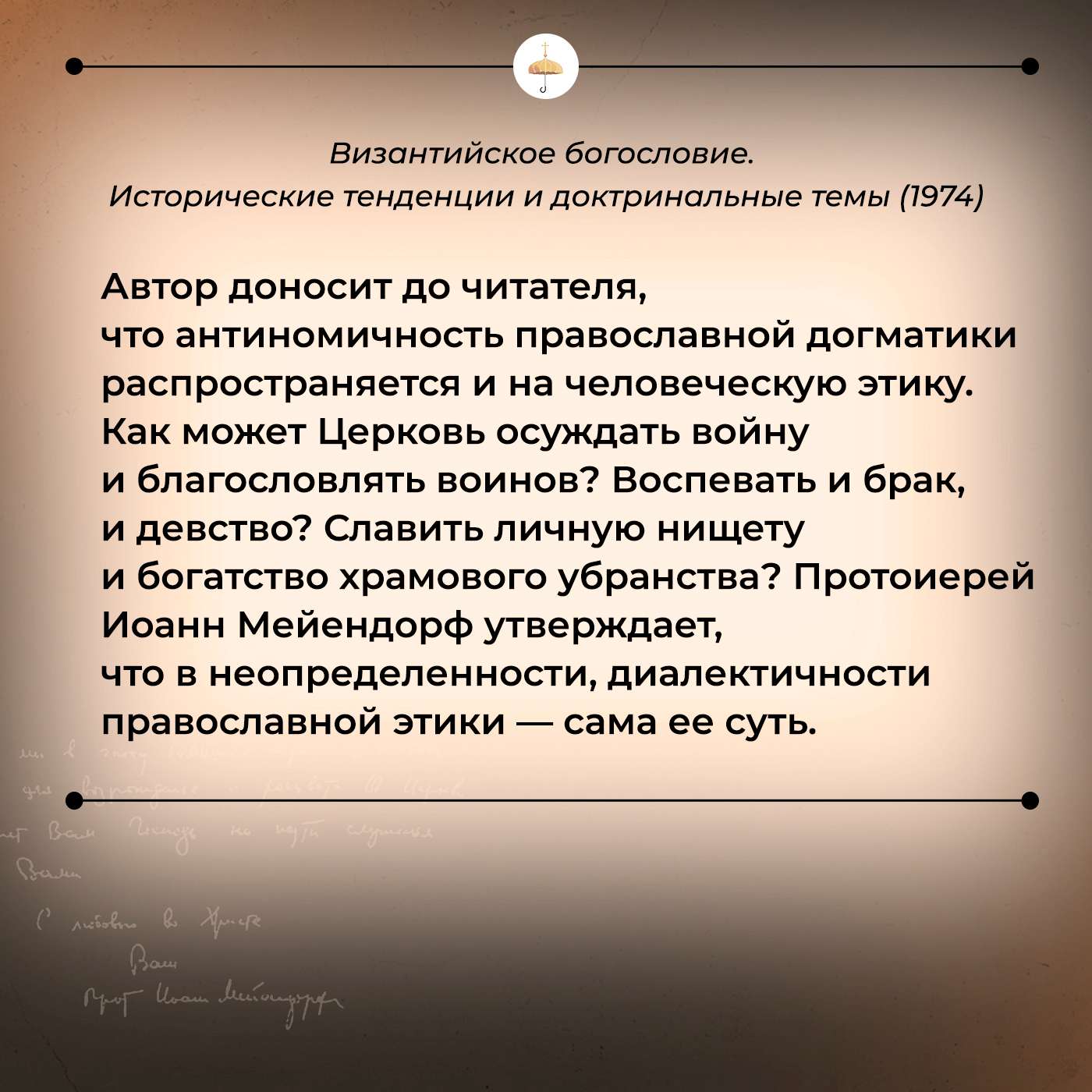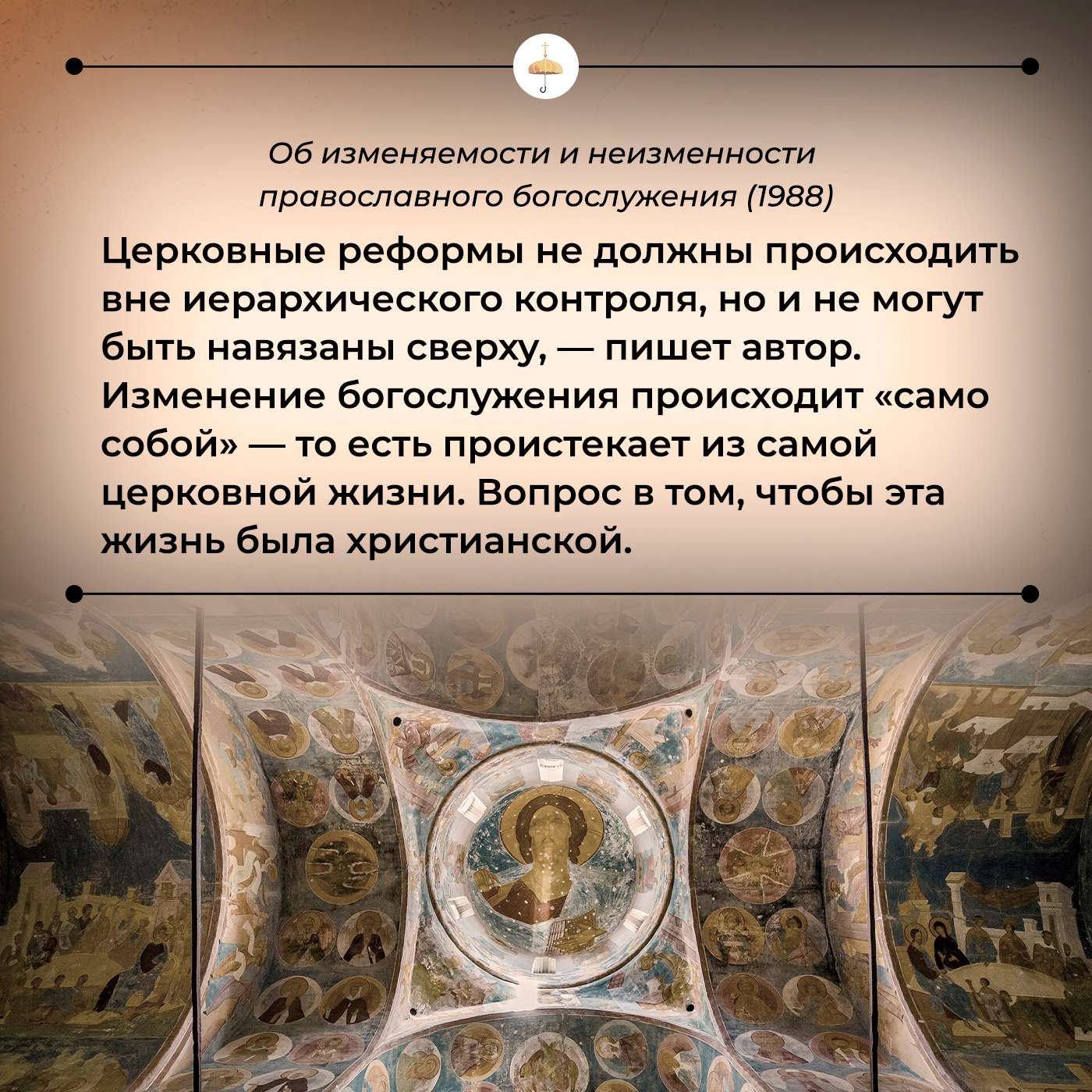Исследователи спорят, кем протоиерей Иоанн Мейендорф был в первую очередь: историком Церкви или богословом? Самые проницательные сходятся на том, что это противопоставление здесь не имеет смысла. С точки зрения отца Иоанна, богословие возможно только как движущееся, изменяющееся в истории Предание. Рассмотрим некоторые идеи этого «исторического богословия» с опорой на главные труды протоиерея Иоанна Мейендорфа.
Паламитский синтез — кристаллизация христианского персонализма
Жизнь и труды святителя Григория Паламы (1959)
Вовсе не отец Иоанн «изобрел» ключевую идею персонализма о первенстве экзистенции (существования, личного бытия) над эссенцией (сущностью). Однако именно он попытался продемонстрировать, что историческая роль святителя Григория Паламы и заключается в концептуальном оформлении этой идеи, имманентной, с точки зрения отца Иоанна, христианскому богословию.
Бог в Себе непостижим — как непостижима всякая индивидуальность, если рассматривать ее с точки зрения понятийно неподвижного бытия, неизменной идеи. Однако Он постижим тогда, когда действует, познаваем в энергиях, которые одновременно и являются Богом-субъектом и не являются Им, поскольку не тождественны Его сокрытой сущности, не исчерпывающейся ни в каком действии.
Мы не знаем Бога как сущность, но знаем как Личность, как то, что явлено, деятельно открыто нам — через общение с Ним. Эту логику отец Иоанн распространяет и на отношения внутри Троицы: действительно, если возможно личное бытие, которое при этом не является сущностью, то это бытие первично по отношению к сущности. Можно и нужно с этим не соглашаться — православное вероучение вообще не знает никакой иерархии сущности и ипостасей. Но богословие устами отца Иоанна, вероятно, должно было эту точку зрения проговорить.
Богословский персонализм есть основная черта предания, на которое ссылается св. Григорий Палама; в нем — ключ к пониманию его учения о божественных энергиях. В своем споре с Варлаамом, излагавшим эссенциалистскую концепцию Бога, учитель безмолвия уточняет свою мысль. Он пишет: «По своей сущности, скажет Варлаам, Бог, как говорят, единственным и объединяющим образом обладает в Себе всеми этими силами? Но прежде всего это нужно было называть Богом, ибо это название дано нам Церковью, чтобы Его обозначить. Бог, когда разговаривал с Моисеем, не сказал „Аз есмь сущность“, а сказал: Аз есмь Сый (Исх 3:14). Значит, не Сущий — из сущности, а сущность — из Сущего, ибо Сущий заключает в Себе все бытие (τὸ εἶναι)». С формальной точки зрения, св. Григорий Палама отказывался отождествлять все существо с сущностью. «Сущность, — пишет он, — по необходимости есть существо, но существо не есть необходимо сущность (ἡ μὲν οὐσία ἐξανάγκης ὄν, τὸ δὲ ὂν οὐκ οὐσία ἐξανάγκης)». Значит, Бог может проявлять Себя в своем существе, оставаясь тем не менее недоступным причастию в своей сущности: в этом-то и состоит смысл того, что называется «учением св. Григория Паламы».
Обдуманное идеологическое самоограничение русских
Византия и Московская Русь (1981)
Отец Иоанн сформулировал параметры преемственности Русского государства от Византии. Во-первых, именно Константинополь в споре Вильно и Москвы за первенство в русском православном мире сделал выбор в пользу второй столицы. И этот выбор — фактор не менее важный, чем географические или социально-экономические условия.
Во-вторых, благодаря византийскому влиянию русские никогда не забывали, что являются частью более широкой общности — союза православных народов с центром в Константинополе. Неотменимость первенствующего императорского престола — хотя бы и пустующего — всегда ограничивала претензии Москвы на главенство в православном мире: это главенство мыслилось ситуативным, временным. Идея «Третьего Рима», как полагает отец Иоанн, никогда не принималась Москвой официально.
Наконец, в-третьих, главным проводником византийского универсализма на Руси было монашество, воспринявшее идеи византийского исихазма: оно прививало русскому политическому сознанию смирение перед наднациональной православной общностью и внушало царской власти, что та нуждается в сильной Церкви.
Обдуманное идеологическое самоограничение русских можно объяснить самыми разными соображениями. Во всяком случае, оно не помешало впечатляющему росту Российской империи как национального государства. Но именно потому, что Московское царство носило характер национальный, некоторые глубоко укоренившиеся представления не давали его правителям забыть, что «римская» (или византийская) политическая идеология исключает право какой бы то ни было нации, как нации, на монополию главенства в универсальном православном содружестве. Поскольку Московское государство всегда мыслило себя национальным, оно не могло претендовать на translatio imperii. Примером этой внутренней диалектики может служить изгнанническое Никейское государство XIII века: не возрождение эллинизма сделало его центром христианской ойкумены, а упорный акцент на своей «римскости» и надежда восстановить свою власть в единственном настоящем «новом Риме» — Константинополе. В Московской Руси «универсалистское» сознание хранило и выражало монашество, утвердившееся здесь еще в XIV веке, когда византийская идеология и духовные влияния шли мощным потоком.
Триумф и трагедия Халкидона
Единство Империи и разделения христиан (1989)
Халкидонский собор — точка в истории Церкви, где берут начало процессы, последствия которых мы ощущаем до сих пор. Попытка сформулировать христологический догмат — что стало возможно благодаря политическому единству империи — привела к последовательному расколу православного Востока. Сторонники и противники Халкидонского догмата не только формулировали богословские концепции, но и создавали новые иерархические структуры, вокруг которых формировались свои литургические, педагогические, литературные, культурные традиции — проще говоря, национальные церкви Египта, Армении, сирийского Востока.
Именно 9-е правило Халкидонского собора о епископе Константинополя как высшей судебной инстанции спровоцировало обострение спора вокруг папского примата, что в перспективе привело к расколу 1054 года Западной и Восточной Церквей. Выходит, что даже величайшее проявление церковного сознания исторически чревато трагедией раскола. Но «цена победы» православия не отменяет, впрочем, самой победы: халкидонское вероучение в конце концов восторжествовало, хотя окончательно это произошло только на VI Вселенском соборе.
Халкидонский собор был во многих отношениях первым истинно «вселенским» собором, с подобающим представительством как Востока, так и Запада. От него же взяла начало и многовековая трещина в восточном христианстве, ясно указывающая на те проблемы, которым в будущем предстояло сделаться определяющими: это — разделения в результате христологических споров на Востоке и более резкое проявление нового осознания Западом римского примата.
Христианство построено на антиномиях
Византийское богословие. Исторические тенденции и доктринальные темы (1974)
Рассуждая о природе византийского богословия, отец Иоанн неожиданно сближается с Честертоном — с его размышлениями об «ортодоксии», о христианстве как таковом. Мейендорф, как мы выяснили, в хорошем смысле персоналист: христианскую догматику он не отделяет от предания, то есть контролируемого развертывания христианской мысли в истории, а описывать эту становящуюся, «экзистирующую», догматику считает возможным только через не снимаемые (диалектика не работает) антиномии: Бог и сущность, и ипостась, Бог пребывает в Себе и творит мир, Христос и Бог, и человек, а человек может стать Богом, оставаясь человеком.
Распространяется эта антиномичность и на человеческую этику: как может Церковь осуждать войну и благословлять воинов? Воспевать и брак и девство? Славить личную нищету и богатство храмового убранства? Я беру примеры из Честертона, но, несомненно, это и точка зрения отца Иоанна, который видел в неопределенности, диалектичности православной этики саму ее суть.
Таковы основополагающие догадки или интуиции, которыми определялись общественная и личная нравственность византийских христиан. На самом деле трудно найти во всей религиозной литературе Византии какую-либо последовательную трактовку христианской этики или правил поведения. Вместо этого, скорее, мы обнаруживаем бессчетное множество примеров моральной экзегезы Писания, да еще аскетические трактаты о молитве и духовности. Это наводит на мысль, что византийская этика была прежде всего «богословской [то есть антиномичной, принципиально неоднозначной] этикой». Основополагающее утверждение о том, что всякий человек, христианин он или же нет, сотворен по образу Божиему и, следовательно, призван к Божественному общению и «обожению», разумеется, признавалось, но не предпринималось никаких попыток построить «мирскую» этику для человека «вообще».
Неизбежные и невозможные изменения
Об изменяемости и неизменности православного богослужения (1988)
Наивно пытаться изменить взрослого человека со сложившемся мировоззрением и набором поведенческих правил. В сто раз самонадеяннее любое стремление изменить Церковь — живое существо, которое гораздо старше, большее и мудрее любого реформатора.
Рассуждения о том, как нам реорганизовать Православную Церковь, должны исходить из того, что Церковь изменить невозможно. Именно так рассуждает отец Иоанн, когда ставит рамки-условия для возможных церковных реформ: (а) они не должны происходить вне иерархического контроля, но (б) и не могут быть навязаны сверху. При этом, если богослужение не меняется, оно отрывается от благочестия, происходит «склероз (омертвение) литургических обычаев».
Что же делать? Ни иерархия, ни народ не могут быть автономными субъектами изменения, но и без изменений нельзя. Имплицитно отец Иоанн подразумевает, что изменение богослужения происходит «само собой» — в том смысле, что проистекает из самой церковной жизни. Вопрос в том, чтобы эта жизнь была христианской.
Изменяемость и развитие богослужения так же неизбежны, как и сама жизнь Церкви в истории. Об этом свидетельствуют, например, многочисленные и очевидные заимствования из практики византийского императорского церемониала, введенные в богослужебную практику в Средние века, или весь тот стиль благочестия в Русской Церкви, который восходит к XIX веку… Даже тогда, когда эти изменения не оправданы ни Преданием, ни богословием, они указывают на жизненность нашего богослужения. Богослужение, как и сама Церковь, не может игнорировать окружающую жизнь. Но в наше время, когда Церковь нигде больше не пользуется официальной поддержкой государства и общества; когда она предоставлена самой себе и призвана свидетельствовать своими только силами, важно вновь восстановить то органическое единство, которое существовало в древнем христианстве — Lex orandi и Lex credendï единство веры и молитвы. Это требует большой пастырской любви, много терпения и терпимости, единства иерархии и народа и хорошего знания богослужения и его истории.