«Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими; но между вами да не будет так», — говорит Бог; «Тебе дам власть над всеми царствами вселенной и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее», — говорит Сатана: православие антиавторитарно.
«Во Христе нет ни эллина, ни иудея, ни скифа, ни варвара» и «если кто приходит ко Христу и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер тот не может быть учеником Христа»: православие антинационалистично.
«Любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас», «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими», «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю», «не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую», «дела плоти известны; они суть: вражда, ссоры, гнев, распри, разногласия, ненависть, убийства и тому подобное. Поступающие так Царствия Божия не наследуют. Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона» — и если Новый Завет, мол, про «личное и духовное», а не про «общественное и реальное» то процитируем святителя Григория Паламу: «над большей частью мира господствуют чаще всего злые люди, рабы преисподней, силой оружия одолевающие соседей, побеждающие войной, мечом, грабежом, порабощением, избиением людей. Из этого ничто не может исходить от Бога, Который добр. Скорее же это обусловлено волей человека и диавола, от начала являющегося человекоубийцей. Учение Христа охватило все пределы экумены без всякого насилия, торжествуя над насилием, которое всякий раз противопоставляется ему»: православие антимилитарно.
Православие антиавторитарно, антинационалистично, антимилитарно: это истина ясна, как ясен сам свет; почему же тогда в странах православной культуры не блокированы авторитаризм, национализм и милитаризм — и даже более — почему зачастую авторитаризм, национализм и милитаризм получают в этих странах даже и некое правосолавнообразное оправдание? — над этим часто задумывались российские православные христиане, некоторые тексты которых составили нашу нынешнюю подборку: тема громадна, мы выбрали лишь немногие тексты, разбив наше изложение на 12 главок и три части.
Классические тексты
I.
Сначала — несколько классических дореволюционных текстов.

«Национальный вопрос в России» Владимира Соловьева — классическая христианская, философская книга против национализма вообще и русского национализма в частности (и против цивилизационных теорий а-ля Данилевский). Соловьев тут излагает идею «христианской» политики. Христианство предписывает быть нравственным каждому человеку — это всем понятно, это банальность. Однако такие вещи, как «общество», «государство» — не самостоятельные сущности, они «состоят» из людей — и, следовательно, если они состоят из христиан, то они очевидным образом сами должны быть христианскими, то есть нравственными. Если политика у вас — не христианская, то есть безнравственная, то вы — просто-напросто не христиане, вы — грешники.
Часто повторяемая ложь «политика безнравственна» — кому она выгодна? — политикам, которые так оправдывают свою безнравственность. Максима «политика безнравственна» есть не что иное, как обоснование даже не делать попыток вести моральную политику. На самом же деле политика, разумеется, есть искусство нравственного устройства общества — справедливого, дающего всем равные возможности, уменьшающего насилие и пр. — христианского общества короче говоря.
Что же национализм? — это эгоизм в политике, имморализм в политике. Давить ради своего интереса кого-то другого — это есть просто-напросто зло, думать, что ты лучше других — просто-напросто грех и глупость. Не говоря уже о том, что национализм абсолютно не совместим с христианством, ибо во Христе нет «ни эллина, ни иудея, ни скифа, ни варвара». Христианство есть абсолютная истина, то есть истина, рассчитанная на всех людей — на все народы. Христианство есть преодоление национализма, ибо национализм есть язычество в политике. Бог един для всех, мораль едина для всех, Иисус умер за всех. Национализм — язычество, «христианский национализм» — кощунство.
Небольшое историко-философское отступление. Чаадаев — отец русской философии. Чаадаев учил, что христианство — всемирно-историческое дело, осуществление евангельской истины в действительности, то есть — в истории, политике. Имя этого осуществления — Запад. Проблема России в том, что по имени будучи христианской страной, в действительности она ей не была — в своих крепостничестве, самодержавии, бесправии, нищете и пр.: Россия вне христианской истории. Чаадаев — христианский западник. И его не поняли. Западники отвергли христианство, но приняли саму идею исторического осуществления христианства (забыв, что осуществляется именно христианство). Славянофилы «сохранили» христианство, но отвергли Запад, они — националисты (причем, как прослеживает Соловьев, движение от ранних славянофилов к поздним есть уменьшение христианства, прогрессивности, моральности, либертарности, все-таки свойственных Хомякову, Киреевскому и пр., и увеличение национализма, культа силы, имморализма, свойственных Данилевскому, Каткову и пр.). Западники и славянофилы разорвали чаадаевскую истину, создав две лжи: ложь не-христианского прогрессизма и ложь «христианского» национализма. Соловьев на новом этапе восстанавливает истину Чаадаева. В русских условиях христианская истина, христианство в действительности, а не на словах есть христианское западничество, то есть понимание христианства как вселенского, всемирного дела евангелизации жизни, в том числе — общественной, политической, экономической жизни. История этого всемирного дела носит названия истории Запада — коей история России есть неотторжимая часть, тоже, разумеется, страдавшего национализмом, но главное — создавшего светлые истины прав человека, социальной справедливости, свободы-равенства-братства, интернационализма и т. д. — эти конкретно-общественно выраженные истины христианства.
II.
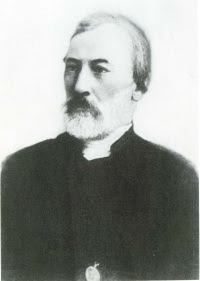
Интересно, что два противоположных современника, ценившие и критиковавшие творчество друг друга — (левый) либерал Соловьев и («ретроград», «реакционер») антилиберал Леонтьев, — в сущности, выполнили одну и ту же работу в отношении славянофильства. Раннее славянофильство было смешением протоанархизма, православной мысли и русского национализма. Позднее славянофильство, в сущности, выбрасывает первое и второе, оставляя лишь третье. И вот, Соловьев и Леонтьев, пусть очень по-разному, но совершают одну и ту же работу, обратную поздним славянофилам: они камня на камне не оставляют от славянофильского национализма, и развивают другие стороны славянофильства. И эту работу можно передать такой формулой: дело не в племени, а в религии и политико-социально-
Чрезвычайно важно понять истинную природу «реакционерства», «консерватизма» Леонтьева, а именно усвоить тот факт, что он — не русский националист, не панславист, не антизападник. Это видно по таким его основополагающим текстам, как «Культурный идеал и племенная политика», «Плоды национальных движений на Православном Востоке», «Национальная политика как орудие всемирной революции», «Записки отшельника», «Письма о восточных делах», «Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения», «Византизм и славянство», «Панславизм и греки», «Грамотность и народность» и ряду других.
Одна из главных тем Леонтьева — борьба с национализмом вообще, и в частности — с русским, панславистским национализмом, с «племенной политикой».
Нация (племя, этнос, раса) есть реалия географическая, физиологическая, языковая, то есть природная, материалистическая реалия. В противоположность нации такие реалии, как государство, религия, экономическое, политическое, социальное устройство, культура, бытовые особенности (все то, что Леонтьев называет «эстетикой жизни») — суть реалии духовные, произведения духа.
Нация есть материальная реалия, а значит, национализм есть форма материализма. Нация — не идея, не дух, не ценность, а географически-физиологически-
Конечно, «культура», «цивилизация», та или иная социальная форма, то или иное произведение духа, тот или иной способ производства не висят в воздухе. Они «состоят» из людей, они затребуют для своего формирования этнографическую материю. Нация, с одной стороны, есть порождение географии и биологии, с другой (и важнейшей) есть эффект, продукт духовных образований (экономики, социальных структур, государства, религии и пр.).
У «нации» есть «ценности». Но как раз в эти ценности не входит «нация», а входят вполне конкретные ценности конкретной политической организации, социальной структуры, экономической формации, религии, культуры. И свести все это к «нации» (географии, физиологии, языку) означает уничтожить все эти ценности.
Скажем, еврейство, казалось бы, предполагает именно ценность нации, и это так, но с той поправкой, что еврейство создано и сводится не к самой по себе еврейской нации, а к религии Торы, и без нее нет никакого еврейства. Следовательно, свести еврейство к нации означает убить суть еврейства. И так с каждой нацией — носительницей великой цивилизации. Этнографический материализм, данности ничего не значат; ценны те ценности и формы, которые своим носителем имеют тот или иной этнографический материал, но, конечно, не материал сам по себе. «Смыслы» не от материи, хоть они и осмысляют материю; ценности не от материи, хоть они эту материю и делают ценной. Или говоря «материалистически»: жизнь разных социальных сил складывается в разные движущиеся конфигурации («смыслы», «формы», «эйдосы»), то есть таковая жизнь не есть разворачивание предзаданных сущностей вроде нации.
«Национальность» по Леонтьеву есть продукт пересечения двух порядков: порядка религиозно-политически-
Православие — наднационально и вообще неотмирно, материально оно создание евреев, греков, сирийцев, коптов и пр.; и тем не менее оно стержень русской культуры/нации. Но, как только вы цените в этом «русскость», вы теряете православие и остаетесь ни с чем — и без православия, и без «русскости», которая свою культуру создала на православии.
Так леонтьевский «византинизм» направлен против русского, болгарского, сербского и пр. национализмов. «Византинизм» есть конкретная религиозная форма (православие во всех деталях своего своеобразного догматического, канонического, литургического строения) плюс сопряженные с ней политические, экономические и т. п. уклады («ромейская — наднациональная, глобальная — империя», «задруга» и пр.). Вот формула духовного, цивилизационного своеобразия русских, греков, сербов, болгар и пр. Национализм же — идея сербского, греческого и пр. государств, благополучия и величия сербского, греческого и пр. этносов — есть уничтожение их своеобразной цивилизации.
Нация — не идея, нужна же идея, духовная форма, ценности — которые вне- и наднациональны.
Вообще Леонтьев с его ультраконсерватизмом — чрезвычайно интересный мыслитель, понять коего страшно мешает как раз ярлык ультраконсерватора; скажем, мы как-то уже писали, что подлинную его мысль можно ухватить формулой «монастырский социализм как парадигма посткапитализма».
III.
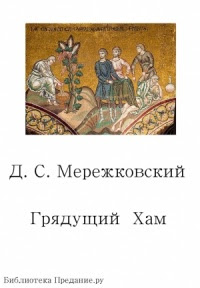
Это были классические тексты мыслителей XIX века. На очереди — дореволюционные тексты еще двух мыслителей — но уже XX века, писавших в преддверии Революции, уничтожившей «православную» Империю.
«Грядущий Хам» — знаменитейший текст Мережковского. Там находим точнейший диагноз гибели упомянутой Империи — и рецепт спасения, коим мы не воспользовались до сих пор:
«Воцарившийся раб и стал хам, а воцарившийся хам и есть черт — уже не старый, фантастический, а новый, реальный черт, действительно страшный, страшнее, чем его малюют, — грядущий Князь мира сего, Грядущий Хам.
У этого Хама в России — три лица.
Первое, настоящее — над нами, лицо самодержавия, мертвый позитивизм казенщины.
Второе лицо прошлое — рядом с нами, лицо православия, воздающего кесарю Божие, той церкви, о которой Достоевский сказал, что она “в параличе”. “Архиереи наши так взнузданы, что куда хошь поведи”, — жаловался один русский архипастырь XVIII века, и то же самое с еще большим правом могли бы сказать современные архипастыри. Духовное рабство — в самом источнике всякой свободы; духовное мещанство — в самом источнике всякого благородства. Мертвый позитивизм православной казенщины, служащий позитивизму казенщины самодержавной.
Третье лицо будущее — под нами, лицо хамства, идущего снизу — хулиганства, босячества, черной сотни — самое страшное из всех трех лиц.
Эти три начала духовного мещанства соединились против трех начал духовного благородства: против земли, народа — живой плоти, против церкви — живой души, против интеллигенции — живого духа России.
Для того чтобы в свою очередь три начала духовного благородства и свободы могли соединиться против трех начал духовного рабства и хамства — нужна общая идея, которая соединила бы интеллигенцию, церковь и народ; а такую общую идею может дать только возрождение религиозное вместе с возрождением общественным. Ни религия без общественности, ни общественность без религии, а только религиозная общественность спасет Россию».
IV.

Рецепт: религиозная общественность. Такой же рецепт — такой же, что и у Чаадаева, ранних славянофилов, Соловьева, Леонтьева — хотя и активно полемизируя с Мережковским — прописывает и Бердяев в сборнике своей дореволюционной публицистики. Он — как и Мережковский — ведет борьбу на два фронта: против атеистической революционности и «православного» консерватизма. Цитата:
«”Союз русского народа” есть лишь беспорядочная смесь элементов дикости, варварства, языческой тьмы и нравственной распущенности, веками сохранявшейся в русском народе, это — последняя вспышка того нравственного идиотизма, который воспитывался силой застаревшего деспотизма. Говорю не о русском народе, а о тех отбросах, которые самозванно себя именуют “русским народом”.
Существует мнение, что черная сотня, увы — не сотня, есть религиозная реакция, реакция старых народных верований против нового духа. Это, пожалуй, действительно религиозная реакция, но реакция не христианской религии, а темной и примитивной языческой религии, языческого суеверия и идолопоклонства. В человеческой, исторической стороне православия много было темного и суеверного язычества. В нашей черной реакции и восстал языческий быт христиан, привязанность их к времени и временному в мире, а не вечная правда и истина христианства.
Христианство есть вселенская истина и всечеловеческая правда и потому не мирится с разгулом инстинктов, с произволом и корыстью личной, групповой или национальной. “Истинно русский” национализм есть самое заправское язычество, язычество, стоящее на уровне развития, предшествующем образованию всечеловеческого сознания. С “истинно русскими” людьми невозможно общение на почве всечеловеческих норм совести и разума.
Кажущаяся сила реакции есть лишь объективация нашей слабости и наших грехов».
Между установлением атеистической диктатуры и ее крахом
V.

«Религиозная общественность», «христианская политика» — это не было услышано; Империя пала и восторжествовала атеистическая диктатура. Православные мыслители, разумеется, осмысляли это; но и не только: они и предугадывали, предупреждали, что станет с российским православием после краха атеистической диктатуры.
Преподобномученица Мария (Скобцова) в знаменитом эссе «Типы религиозной жизни» так описывала дореволюционное православие и причины его краха:
«У многих церковь была каким-то неизбежным атрибутом великодержавной русской идеи, без которой трудно говорить о своем национализме, о своей верности традициям и заветам прошлого. Церковь определяла известную политическую и патриотическую благонадежность. Со времени Петра Великого наша русская православная Церковь стала атрибутом русской великодержавной государственности, стала ведомством среди других ведомств, попала в систему государственных установлений, и впитала в себя идеи, навыки и вкусы власти. Государство оказывало ей покровительство, карало за церковные преступления и требовало проклятий за преступления государственные. Государство назначало церковных иерархов, следило за их деятельностью при помощи обер-прокурора, давало Церкви административные задания, внедряло в нее свои политические чаяния и идеалы. За двести лет существования такой системы самый внутренний состав Церкви видоизменился. Благочестие есть некая государственная добродетель, нужная лишь в меру государственной потребности в благочестивых людях. Священник есть от государства поставленный надсмотрщик за правильностью отправления религиозной функции русского верноподданного человека. Естественно, что синодальный тип благочестия опирался в первую очередь на кадры петербургской министерской бюрократии, что он был связан именно с бюрократией, — и так по всей России распространялся через губернские бюрократические центры, до представителей государственной власти на местах. Высшей ценностью был, пожалуй, порядок, законопослушность. Соборы — венец и выражение синодального архитектурного искусства — подавляли своей монументальностью, обширностью, позолотой и мрамором, огромными куполами, гулким эхом. Все было одно к одному, все было слажено во всех видах церковного искусства этой эпохи, — все ставило своей целью явить мощь, богатство, несокрушимость православной Церкви и покровительствующего ей великого государства российского. Синодальный тип религиозной жизни зачастую просто подменял Христову любовь эгоистичной любовью к вещам мира сего. Вся система предопределяла то, что самые религиозно-одаренные и горячие люди не находили в ней себе места. Так растился у нас антирелигиозный фанатизм наших революционеров, столь похожий в своей первоначальной стадии на огненное горение подлинной религиозной жизни. Он втягивал в себя всех, кто жаждал внутреннего аскетического подвига, жертвы, бескорыстной любви, бескорыстного служения, — всего того, что официальная государственная Церковь не могла людям дать».
В эссе же «Настоящее и будущее Церкви» она писала — предупреждала!:
«Можно сомневаться в дальнейшем существовании своей родины, можно быть даже уверенным, что ни одно государство, ни один народ, ни одно жизненное устройство не обладает признаками вечности, — только несомненной остается вечность жизни церкви, — врата ада не одолеют ее, она и в дни Второго Пришествия и Страшного Суда будет все той же, в Пятидесятницу основанной церковью.
Покровительство со стороны государства медленно внедряет в церковную жизнь нецерковные понятия, подменяет лик Христов, производит смещение планов. Церковная жизнь постепенно перерождается по типу любого человеческого установления, церковь становится ведомством, компрометируется государственными, подчас языческими идеалами. Эта отравленность церковного организма подчас заходит так далеко, что даже церковные иерархи утверждают, например, оправдываемость смертной казни с точки зрения христианства или неразрывность церкви с монархическим образом правления.
[О постсоветском православии:] можно надеяться на какой-то период расцвета и религиозной мысли, и религиозной жизни, и напряженных исканий. Но тут всегда один вопрос, обойти который нельзя. Что из себя представляют эти возможные будущие церковные кадры? Точнее, как и в каком духе они воспитаны? [Постсоветские люди] за неправильно положенное крестное знамение будут штрафовать, а за отказ от исповеди ссылать в Соловки. Свободная же мысль будет караться смертной казнью. Тут нельзя иметь никаких иллюзий, — в случае признания Церкви в России и в случае роста ее внешнего успеха она не может рассчитывать ни на какие иные кадры. А это значит — на долгие годы замирание свободы. Это значит — новые Соловки, новые тюрьмы и лагеря.»
VI.
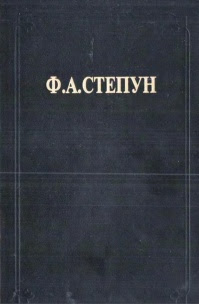
То есть — объединяя все выше сказанное — имперское «православие» выбивало из Церкви все подлинно религиозные натуры, которые посвятили себя делу борьбы с Империей и возведению атеистической диктатуры; это трагедия на втором круге повторяется как крах атеистической диктатуры, закрепляющей худшее в имперском «православии», которое возрождается на руинах атеистической диктатуры. Так писала мать Мария; так же писали и Георгий Федотов и Федор Степун — два выдающихся православных мыслителя, суть или метод мышления которых можно обозначить как «теологическая социология»: не просто богословствование/
Федотов вместе со Степуном (а также с св. мучеником Бунаковым-Фондаминским и др.) работал над «новоградским сознанием», которое Степун формулировал так: «единство христианской идеи абсолютной истины, гуманистически-просвещенческой идеи политической свободы и социалистической идеи социально-экономической справедливости». Зажатые между большевизмом, фашизмом, нацизмом, либерализмом, распространенными среди русской эмиграции фашизоидными течениями (еврезаийством, «православным» консерватизмом и пр.), эти мыслители пытались создавать систематическое, объемное христианское мировоззрение. Сводится оно, если кратко, к христиански обоснованному либертарному социализму: против капитализма во всех его формах, и против всякой диктатуры во всех ее формах, за социализм во имя свободы личности, во имя освобождения людей, а не нового порабощения, за демократию, но истинную, для всех — то есть за демократический социализм. Такова политическая проекция христианских истин персонализма, соборности, любви, свободы на политическую плоскость. Важно еще, что новоградцы, продолжая и развивая главную тему русской религиозной философии — «христианскую политику», христианский социализм — при этом окончательно «воцерковляют» ее; новоградцы — момент русского религиозно-философского процесса, где он окончательно «открывает» православие.
Степун в «Очерках о России» писал:
«Предельный обыватель — черносотенный персонаж. Сущность всякого обывателя в том, что духовное начало почти совсем безвластно над его душой, что его душа почти целиком производное своей среды и обстоятельств. В черносотенном персонаже это грешное засилье души вещественной обстановкой доведено до максимальных пределов.
Развивающееся сейчас в некоторых кругах эмиграции «православное» социалистоедство и «православное» кулачество (Христос как основа «священной» собственности) представляет собою для судеб грядущей России, в подъяремных недрах которой тоже, конечно, накапливается и «православное» кулачество и «православное» «жидоедство», очень большую опасность; опасность поддержки реакции со стороны церкви и растления церкви реакцией: опасность черносотенного клерикализма.
Политическая борьба против «православной» реакции будет в будущей России возможна, действенна и права только как борьба подлинно прогрессивной, социалистической общественности за свободную от политической злободневности церковь».
Вообще интересно и важно степуновское описание постсоветского «буржуя», опасность черносотенного клерикализма для Церкви после ее освобождения от советских гонений. Степун считал преступлением реставрацию капитализма в России, несмотря на свой антибольшевизм, он считал установление в ней социализма большим достижением и выступал за его сохранение и развитие в сторону освобождения личности. В обратном случае, предупреждал он Россию ждет тирания буржуазии и православный фашизм (будучи православным Степун особенно этого боялся):
«Преодолеть большевизм новый буржуй не сможет: он хуже большевика — он осадок большевизма: подкованный звонкой бессовестностью беспринципный рвач с большим, но корыстным и безыдейным размахом. Ставка на эту силу, которая будет играть в России, безусловно, видную роль, представляется мне мало привлекательной. Быть может, с ней и не удастся справиться, но искать на нее управы мне представляется весьма необходимым. Я никак не понимаю приятия мещанства как того окончательного результата, который мог бы, хотя бы в малой степени, оправдать все трагические взлеты и срывы революции. Верховная же тема социализма: предчувствие и желание конца лжегероической, либерально-просвещенской, буржуазно-капиталистической эпохи, с ее индивидуалистическим расхищением личности и разложением духа общинности, — не может органически претить православному чувству: до некоторой степени она сама по природе православна. В случаях же, где и эта тема социализма оказывается неприемлемой для православия, там при ближайшем рассмотрении в деле оказывается замешанным не столько христианство, сколько феодально-церковный быт и клерикально-политический стиль отошедшей эпохи.»
VII.
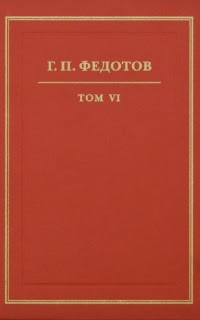
Евангелие, говорит Федотов, задает социальный идеал, христианин — если он действительно христианин — «работает» на реализацию этого идеала. Христианство — не только религия личного спасения, у него есть социальная этика; не «программа», а именно этика, помогающая в конкретных политических обстоятельствах занять евангельскую позицию. В эссе «Россия и свобода» он писал: «стоит вглядеться в эту последнюю, антилиберальную реакцию Москвы, которая сама себя назвала по–московски Черной Сотней. В свое время недооценили это политическое образование, из–за варварства и дикости ее идеологии и политических средств. В нем собрано было самое дикое и некультурное в старой России, но ведь с ним было связано большинство епископата. Его благословлял Иоанн Кронштадтский, и царь Николай II доверял ему больше, чем своим министрам. За православием и самодержавием, т. е. за московским символом веры легко различаются две основные тенденции: острый национализм, оборачивающийся ненавистью ко всем инородцам — евреям, полякам, немцам и т. д., и столь же острая ненависть к интеллигенции, в самом широком смысле слова, объединяющем все высшие классы России. Словом, черная сотня есть русское издание или первый русский вариант национал-социализма».
А в эссе «О национальном покаянии» Федотов предупреждает о возрождении в постсоветской России черносотенства: «ярость, одержимость злобы завтра будут направлены на созидание национальной и православной России. Оцерковленное, оправославленное зло гораздо страшнее откровенного антихристианства».
«Теологическая социология» — так мы назвали метод и суть новоградского мышления. Ясно и четко артикулировать христианские ценности и проанализировать возможность их воплощения в конкретных социальных условиях — вот задача: какие социальные группы на это способны, какие конкретные политические и экономические технологии, уклады для этого потребны? Федотов много об этом думал, например в эссе «Проблемы будущей России» — то есть проблемы постсоветской России. Что нужно сделать (то есть что надо было бы сделать — ведь мы уже упустили возможность), чтобы в постсоветской России не восторжествовало «оправославленное зло»? — Федотов, например, говорит о демократизации системы советов, а не их упразднении (которая как мы помним была таки упразднена выстрелами из танков); о, например, том, что постсоветский коммунизм должен не выбрасывать на свалку саму идею социальной справедливости, внимательность к рабочему классу и пр. (это тоже не было услышано); о, например, неприемлемости сплошной приватизации: «если дорожить экономической мощью русского государства, его влиянием на общую хозяйственную жизнь страны, то нельзя, увлекаясь духом антикоммунистической реакции, разделывать все сделанное, разбазарить, раздарить или продать с торгов все государственное достояние России» (и это как мы знаем услышано/понято не было); вообще все ценное в Русской революции, все реальные — социальные, научные и пр. — революционные/советские достижения должны быть сохранены, а не выброшены.
Рядом с политическими, социальными, экономическими проблемами постсоветской России Федотов говорит о проблемах культурных. После краха СССР Федотов предугадывает вакханалию «традиции» («оправославленного зла»). Он пишет о необходимости отказа от москво-петербургоцентризма в русской истории и культуре, о необходимости встраивания освободительных и революционных традиций и достижений в русскую культуру и понимание русской истории, в национальное сознание постсоветской России. Революционные, освободительные, демократические, республиканские ценности в постсоветской России могут быть спасены только их воцерковлением — в этом будет и спасение Русской Церкви — ее спасение от повторного грехопадения в черносотенство (в той или иной форме); опять же и этого мы не услышали:
«Революционная эпопея должна говорить сама за себя, в оголенности своего нравственного подвига. Наша великолепная реакция — даже в Достоевском и Леонтьеве — всегда несла в себе разлагающее семя морального порока. В борьбе с победоносной революцией, она представляла партию декаданса против моральной чистоты и против жизненного христианства. Имморализм реакционной «традиции» XIX и XX веков обесценивает ее воспитательное значение для будущей России. Революция должна расширить свое содержание, вобрать в себя maximum ценностей, созданных национальной историей, чтобы выдержать длительное состязание с традицией. Если для монархиста дело идет о том, чтобы надеть на революционера императорскую ливрею, сделать из революции побочный продукт имперской культуры, то для революции важно наложить свою печать на саму монархию, отметить революционным помазанием все творческое в наследии царей. Для революции гораздо существеннее продвинуть свои рубежи вглубь прошлого, освободить русскую традицию от оков Карамзинской монархической схемы. Национальный канон, установленный в XIX веке, явно себя исчерпал. Его эвристическая и конструктивная ценность ничтожна. Вполне мыслима новая национальная схема, которая оказалась бы менее тенденциозной, менее узкой, нежели схема Карамзинская, и в которую факт русской революции вошел бы не как непредвиденная катастрофа, а как отрицание отрицания, восстановляющее древнюю правду. Русское прошлое, русская культура откроются лишь для того, у кого есть глаза на духовные основы этой культуры, этого национального прошлого. Эта культура, это прошлое — плоть и цветение христианства. Без внутреннего приобщения христианству невозможно никакое истолкование русской национальной идеи. Без этого крещения революционная идея может одерживать еще интернациональные победы, но она будет всегда бита «традицией» на поле национального матча. Это поражение означает, рано или поздно, гибель революции и ее идеи. Бессильный, не существующий сегодня, ее противник будет крепнуть с каждым новым успехом национального сознания. Лишь христианизация вольнолюбивого и демократического идеала спасает его национальную ценность, как примирение с Церковью делает прочными и даже незыблемыми основы нового республиканского строя».
VIII.
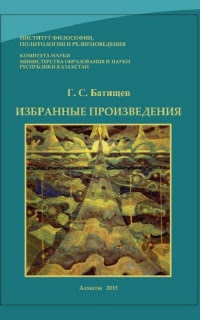
Федотов писал, что — в отличие от позитивизма, народничества — марксизм содержит внутренний ресурс для превращения в православие, чему подтверждением служит целая череда бывших (а местами даже и не только бывших) марксистов среди лидеров Русского религиозного ренессанса (Бердяев, Булгаков, сам Федотов). Мать Мария, Степун и Федотов писали, понятно, в эмиграции; советская же культура развивалась своим ходом, а в частности и породила православное возрождение 70–80-е гг.
Одно из чудеснейших проявлений советской культуры, а в частности и православного возрождения — философия Генриха Батищева, одного из ведущих марксистских философов (вообще в мире) и — православного мыслителя. В эссе «Активность? Не чересчур активная попытка побеседовать с читателем» он дает чисто логическую схему вышеприведенных слов Степуна (а стало быть, по общей связи и всех мыслителей в этой подборке).
«Взебисившееся ничто» обывателя, «вооруженное животное», внешне цивилизованный бескультурный нигилист — вот концептуальный персонаж Батищева: образчик (логически очищенная схема) жителя индустриальных обществ. Обессмысленный, оторванный от всякой общности индивид-атом, от всякой культуры (скажем, от «культуры глубинного общения» — молитвы), знающий только свои потребности — он ищет удовлетворить их — и находит способ удовлетворения в Роде-Порядке, Авторитарном Авторитете и пр. (национализм, милитаризм, авторитаризм). Все обессмысливающая и обесценивающая, опустошающая, разрушительная энергия — одна и та же играет и в душе обывателя-нигилиста, и в «Деле» (корпорации или государства) деловитого дельца, и в бюрократической машине, и в разгуле тоталитарного насилия, и в разгуле милитаристского насилия. «Частные» энергии обывателей-нигилистов собираются вместе в нигилистических огромных машинах того или иного Дела. Энергии эти суть отчужденные энергии человека — долженствующие по внутреннему своему предназначению пойти на обожение (Батищев, конечно, пользуется другими терминами) эти энергии идут на расчеловечивание, обессмысливание, обесценивание — а в частности на утилизацию — превращение в лишь средство, орудие — всего богатства культуры (православной, скажем). В частности поэтому религию любви, кротости, покаяния, прощения, смирения и пр. и пр. — удается превратить в орудие, средство вещей совершенно противоположных перечисленным: в орудие авторитаризма-милитаризма-национализма: обыватель-нигилист и функционер-нигилист отчуждает «православие» от его собственных смыслов и ценностей, инструментализируют его, превращает в ресурс своей властной похоти — как и вообще все, что попадется им под руку. Цитаты:
«Активизм лишь тогда вполне “активен”, когда он милитаризуется и когда его взвинченное проповедничество в каждом жесте и слове разносит вокруг себя лязг и бряцанье, демонстрирующие его всесокрушительную готовность. Повсюду — фронт, все — солдаты, все — только оружие. Ничто не ценно само по себе, все значимо только для “нанесения ударов” и “ведéния огня”. Все, что не посвятило себя безраздельно “боевой” задаче «растоптать и уничтожить», уже тем самым служит врагу. Так вся общественночеловеческая жизнь оказывается подвергнутой тотальной и тоталитарной мобилизации. Чем свирепее все растаптывающая и не знающая границ активность, тем суровее и жестче тот Порядок. Как показывает история, активизм, кончающий сáмой свинцово-мрачной милитаризацией всего и вся, начинает с выспренных фраз и помпезных обещаний. Обращаться к “широкой публике” эта идеология позволяет себе лишь в критически-кризисные моменты, когда элита сама заинтересована в максимальном разрушении существующего порядка вещей и изничтожении его носителей грубо насильственным способом. учреждаемый ими Единственно Правильный Порядок есть не что иное, как прозаически осуществлкнная мечта внутреннего НИЧТО об упростительском царстве однозначности, унифицированности и гарантированной беспроблемности. И, по сути дела, это даже не само-, не в-себе-уверенность, а скорее просто-напросто уверенность в том, что любое, пусть фантастически фальшивое действие или слово сойдет за непогрешимое, коль скоро оно санкционировано и гарантировано безличным Авторитарным Авторитетом».
Постсоветские тексты
IX.
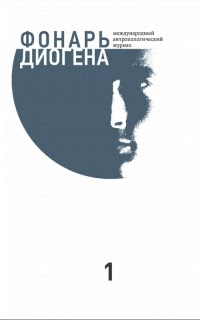
И вот атеистическая диктатура рухнула, и началось «церковное возрождение» 90-х. Сергей Хоружий — великий православный мыслитель описывал постсоветскую эпоху как «антропологическую (вариант: «этическую») катастрофу. В эссе «Другой — Чужой — Враг: антропология замыкания и ненависти» (2018) Хоружий вкратце намечает антропологию вражды: вражда есть особого рода антропологическая практика — создание образа Другого, где его реальность подменяется образом отвратительного/опасного Врага; практика замыкания от Другого, позволяющая, разрешающая к нему ненависть, агрессию, вражду и пр. — здесь идет накручивание, накаливание агрессивных энергий бессознательного; таким образом, расчеловечивание Врага есть практика расчеловечивания самого себя, вплоть до страсти ненависти, одержимости, перетекающая в практики уже вполне реальной агрессии, насилия, убийства, войны и пр.; отмечается социальная «эффективность» такой практики:
В практиках вражды Другой превращается сначала в Чужого, затем во Врага; то есть прежде всего практика вражды есть практика оперирования с образом Врага, задающаяся формулой «расчеловечение образа Врага прямо пропорционально расчеловечению оперирующего с этим образом». Реальная группа людей, чьим образом служит образ Врага тут вообще ни при чем, это «практика себя» в чистом виде: образ Врага — ментальная конструкция, присутствующая только в моих уме/сердце, сознании/бессознательном; взаимодействие с образом Врага есть как бы «медитация», «духовное упражнение», некая специфическая работа со своей психикой. Заключается она в следующем.
Образ Врага — ментальное устройство, аккумулирующее в себе энергии безумия, бессознательные энергии агрессии, ненависти, отвращения, разрушения и пр. и пр. Чем более отвратителен враг (в моем его ментальном образе), чем более он опасен, тем больше раскрепощаются мои энергии отвращения и агрессии. Образ ими накачивается и провоцирует их дальнейшую накачку; образ Врага переопределяет, центрирует всю внутреннюю жизнь вокруг себя; превращает психику в машину производства разрушительных энергий. Враг должен быть и отвратителен и опасен; он должен быть дурен во всем, несмотря на логические противоречия: он собирает в себе все фигуры, притягивающее энергии безумия/ненависти/отвращения/самопревозношения. Предел этой практики себя: психологически — переподчинение всей психики образу Врага; теологически — бесоодержимость; во внешнем плане — практики агрессии, насилия, войны. Бесоодержимый убийца — вот модель, которая производится в практиках вражды: нечто прямо обратное тому, что должно производиться в восточнохристианских практиках себя. «Опасность» Врага есть созданная мной же самим конструкция в моих уме/сердце, «легетимирующая» мои эмоции вражды и практики агрессии.
Антропология вражды, пишет Хоружий, характеризуется как острая дехристианизация психики и — логично — острая паганизация, архаизация ее. Что же делать?
«Что делать с чумой ненависти? Нельзя ведь ничего с ней не делать?! Все мы – отнюдь не сторонние наблюдатели ее, но одновременно жертвы и соучастники, каждый в своей пропорции. Но заведомо нет и универсальных гарантированных рецептов исцеления от нее. “Словарь психолога” наставляет, что ненависти “противопоставляются нравственные убеждения”, – но нравственных убеждений много разных, и ненависть сама отлично способна принять форму “нравственного убеждения”. Пути исцеления конкретны, экзистенциальны. От ненависти уводят простые, однако нелегкие умения прощать, представить себя на месте Другого, приветить его как гостя.
В лоне больших духовных традиций эти умения развиваются в целостную культуру, оберегающую от ненависти, от развязывания смертоносного «нарастания до предела». Своя культура такого рода издревле создана в буддизме. А в нашей, христианской традиции надежный путь исцеления от чумы – простые заповеди Христа о любви, взятые как они есть, в прямом евангельском смысле, без софистических толкований, что тщатся открыть лазейку для ненависти, превратив религию спасения рода человеческого в племенной культ. “Учение, пример жизни, смерти и воскресения Христа снимают вражду в самой ее основе”. “Победи ненависть любовью”, – очень прямо и просто говорит преп. Максим Исповедник, один из сложнейших христианских мыслителей. И в наши дни именно на этой победе, на “любви к брату”, любви к врагам сосредоточивается духовный опыт прп. Силуана Афонского. “Если прощаешь брату обиды и любишь врагов, то получишь прощение грехов своих и Господь даст тебе познать любовь Святого Духа”».
X.
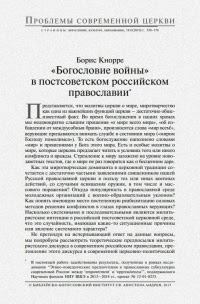
«”Богословие войны” в постсоветском российском православии» — статья Бориса Кнорре.
«Представляется, что молитвы церкви о мире, миротворчество как одна из важнейших функций церкви — достаточно общеизвестный факт. Во время богослужения в наших храмах мы неоднократно слышим прошения “о мире всего мира”, “об избавлении от междуусобныя брани”, произносятся слова “мир всем!”, верующие призываются внимать службе в состоянии мира (“миром Господу помолимся”). То есть богослужение наполнено словами “мир” и прошениями у Бога этого мира. Есть и особые молитвы о мире, которые церковь предлагает читать в условиях того или иного конфликта и вражды. Стремление к миру заложено на уровне новозаветных текстов, где о мире не раз говорится как о бесценном даре.
Как эта миротворческая доминанта в церковной традиции сочетается с достаточно частыми заявлениями священников нашей Русской православной церкви в пользу тех или иных военных действий, со случаями освящения оружия, в том числе и массового поражения? Откуда популярность в православной среде молодежных организаций с военно-образовательным уклоном? Как понять имеющую место постепенную реабилитацию силовых методов решения конфликтов в глазах православных верующих? Насколько системными и последовательными являются милитаристские интенции в российской постсоветской церковной среде, что это случайность, имеющая какие-то ситуационные причины или явление системного характера?
Не претендуя на исчерпывающий ответ на данные вопросы, мы попробуем рассмотреть теоретические предпосылки милитаристского дискурса в современном российском православии, преломление этого дискурса в современной церковно-политической мысли и возможность реализации проговоренных в его рамках идей в условиях политической турбулентности.
Внимание в данной статье сфокусировано на особенностях церковной культуры, которые связаны с восприятием окружающего мира сквозь символические образы войны или космической “священной битвы”. Проиллюстрированы новые для церковного богословия формулы, предложенные со стороны идеологов “политического православия”. В статье показано также, насколько спиритуалистические представления о “духовной брани”, о «невидимых врагах» в духовном мире могут проецироваться на реальный мир, приводя к появлению персонифицированных форм зла и, соответственно, укрепляя “оборонно-охранительное сознание” в церковной среде и за ее пределами. Приведены конкретные примеры военно-апокалиптических проекций на социальную плоскость, и более того, иллюстрации того, как “богословие войны” может способствовать реальным, отнюдь не виртуальным военным конфликтам».
XI.
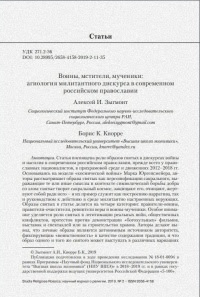
«Воины, мстители, мученики: агиология милитантного дискурса в современном российском православии» — статья Алексея Зыгмонта и Бориса Кнорре.
«Статья посвящена роли образов святых в дискурсах войны и насилия в современном российском православии, прежде всего у православных националистов, в прихрамовой среде и движениях 2012–2018 гг. Основываясь на модели “космической войны” Марка Юргенсмейера, авторы рассматривают образы святых как персонификации сакрального, выражающие те или иные смыслы в контексте символической борьбы добра со злом: святые творят сакральный космос, защищают его, очищают, жертвуют собой ради него – и их пример служит как построению нарратива, так и руководством к действию в среде милитантно настроенных верующих. Образы святых в статье делятся на четыре категории: правители-воины, правители-очистители, ревнители веры и воины-мученики. Особое внимание уделяется роли святых в легитимации реальных войн, общественных конфликтов, протестов против демонстрации “богохульных” фильмов, выставок и спектаклей или за строительство храмов. Авторы делают вывод, что личные образы являются автономным источником авторитета, фиксирующим “воинственность” в качестве содержания традиции, и что образ одного и того же святого может выступать в различных вариациях и легитимировать насилие в большей или меньшей степени в зависимости от характера группы, которая к нему обращается».
XII.

«Проблематика насилия в Русской православной церкви в постсоветский период» — статья Алексея Зыгмонта.
«Настоящая статья представляет собой попытку проанализировать ряд явлений в российском православии постсоветского периода (начиная с 1991 года), связав их с концептом насилия. Мы последовательно рассмотрим образ космической войны в дискурсе официальных представителей Московской патриархии и православных националистов; проблемы, связанные с ролью этого образа в вопросах морали и нравственности, семьи и воспитания детей; затем обратимся к событиям 2012 года, связанным с акцией Pussy Riot и реакцией на нее; далее — к примерам символического и личного насилия; завершим анализ эсхатологическими образами космического завоевания и тем, что можно обозначить как “жертвенный кризис” так называемой “прихрамовой среды”.
Актуальное насилие само по себе является “голым” и бессодержательным, обретающим смысл только в горизонте структуры насилия, специфика которой и позволяет определить его как специфически религиозное. Насилие в религиозном сознании, исходя из нашего материала, предстает как “меньшее зло”, “вакцина”, насилие, направленное на то, чтобы насилия больше не было. Поэтому оно обычно описывается как оборонительное или оборонительно-наступательное (превентивное), а “канал” насилия в дискурсе любого религиозного сообщества выстраивается от дискурса виктимности (позиционирования самого себя в качестве объекта насилия) к дискурсу апологии или легитимации насилия (утверждению возможности или необходимости отвечать насилием на насилие).
“Космическая война” является действующим определением ситуации для руководства Московской патриархии, православных националистов и некоторых сообществ прихрамовой среды».




